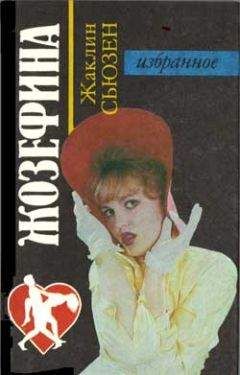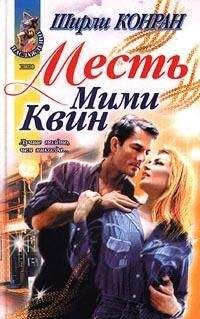Пока я стараюсь сообразить, какое средство спасения ей протянуть, она делает две или три быстрые затяжки. Видно, что она не привыкла курить и делает это только для того, чтобы выгадать время и собраться с силами для штурма… Может быть, еще и для того, чтобы ее очарование, действие которого на меня она прекрасно уловила, совсем уничтожило меня. Превосходный расчет!
Я уже знаю, что сделаю все, что она захочет. Из любви к ней. Что я совершу самые ужасные глупости, разрушу жизни, начиная со своей, из любви к ней. Что я теряю разум, готов броситься в колодец головой вниз, спустить с цепи всех демонов ада, без надежды, без иллюзий, без ничего, из нелепой и непреодолимой любви к ней, к ней, к ней… Она — это Лизон, и она больше, чем Лизон. Она — мать Лизон.
А я несчастный тип и грязный дурак.
Я произношу, с гримасой, которая должна изображать улыбку:
— Кажется, мы собираемся разыгрывать сцену из "Дамы с камелиями", но наоборот. Вы папаша Дюваль, а я мерзкая куртизанка, пожирательница маленьких детей.
Это не рассмешило ее. На ее месте я тоже не смеялся бы. Она смотрит на меня удивленно. Именно так: удивленно.
— Дорогой месье… Нет, дорогой Эмманюэль… Вы позволите мне называть вас Эмманюэлем?
Я больше не понимаю, где я и что со мной. Не успеваю ответить, как она продолжает:
— Дорогой Эмманюэль, вы конечно же поняли, что я знаю все о ваших… отношениях с моей дочерью, собственно, это единственная общая тема, интересная для нас обоих, которая оправдывает мое вторжение к вам.
— Могу я спросить у вас, мадам, как и через кого вы узнали о наших… отношениях?
— Вы можете спросить об этом, впрочем, вы это уже сделали, но я вам не отвечу. Больше не прерывайте меня, пожалуйста, то, что я собираюсь вам сказать, и так довольно затруднительно. Вам, я думаю, лет тридцать пять. Лизон нет еще девятнадцати. Разница в возрасте не слишком большая. Я не думаю, что вы то, что обычно принято называть выгодной партией или даже просто подходящей. Ваши заработки очень небольшие и случайные. Не хочу вас обидеть, но у вас довольно жалкое жилище. У вас нет, извините меня, никакого будущего. Учитывая все это, есть ли у вас намерение жениться на моей дочери?
Хорошо ли я расслышал? Кажется, ход событий уклоняется от предусмотренного маршрута. Произошел поворот, я не в силах уследить. Я перехожу от ошеломления к изумлению. Это должно читаться у меня на лице.
Она кладет руку на мою. Ее рука на моей руке… Она произносит совершенно невероятные слова:
— Эмманюэль, вы спасли мою Лизон.
Она вздыхает. Не знает, с чего начать. Я жду, сосредоточив все свои чувства в руке, лежащей под ее рукой.
— Лизон всегда была, как бы выразиться, "трудным случаем". Совсем маленькой она уже была исключительно сильной личностью. Она знала, чего хочет, как говорится, и не отступала до тех пор, пока не добивалась желаемого. Мне нет необходимости расхваливать перед вами ее ум. Она проявила его очень рано. Она красива, это вы тоже знаете. Веселая, привлекательная, добрая, непосредственная… И цельная, таинственная, своенравная… Романтичная, сказали бы в прошлом веке. Порывистая, сказала бы я. В мгновение ока она переходит из одной крайности в другую, от восторженной экзальтации к отчаянным рыданиям. Абсурдность и несправедливость общества так возмущают ее, что доводят до болезни. Спокойный цинизм власть имущих заставляет ее видеть мир в виде кровавой бойни и держит ее в состоянии почти патологической тревоги. Она избегает общества молодых людей, которых она находит пустыми и циничными карьеристами. И в самом деле, нынешние подростки более не пылают прежним благородным негодованием… Лизон выносит только общество Стефани, подруги детства.
Она делает паузу. Я пользуюсь этим, чтобы предложить ей:
— Вы действительно не хотите чаю? Это ведь быстро, раз — и готово.
Она отрицательно качает головой:
— Нет-нет. Спасибо. Дайте мне высказаться до конца.
Она вынимает сигарету, хочет ее прикурить, отказывается от этого. Я смотрю, как двигаются ее руки.
— Я не осознала хорошенько май шестьдесят восьмого, я тогда была еще маленькой девочкой. Однако я училась — ничтожно мало! — в годы, которые последовали за волнениями. Как и вся тогдашняя молодежь, я была увлечена благородными идеями… Вспомните, мы хотели изменить мир! Старым крокодилам, их системе и их слугам не было места в нашем представлении о будущем.
Она задумчиво качает головой. Я говорю:
— Я тоже основательно этим увлекался. И я не изменился. Мы были правы. Мы обвиняли, вспомните, "общество потребления". Но выиграло именно оно, подлое. Выиграли старые чудовища. И сама их победа доказывает, до какой степени мы были правы. Они прибрали к рукам ту восторженную молодежь, обесчестили ее, интегрировали в свой прогнивший мир, испортили до такой степени, что она стала кичиться своим собственным отступничеством, ловко использовали взрывную энергию молодого поколения к наибольшей выгоде той самой системы, которую оно ненавидело. Гонка за прибылью, честолюбие, карьеризм демонстрировались с гордостью, рассматривались как наивысшие добродетели, в то время как благородные принципы осмеивались с тем цинизмом, который выдается за юмор. Народ копается в дерьме из страха перед умело регулируемой безработицей. Ему не дают поднять голову, с помощью средств массовой информации нагнетая страсти, отвлекая внимание на идиотские и подлые шовинистические игры: футбол, теннис… Вообще-то я увлекся и заставил вас выслушать целую речь старого разочарованного бойца! Извините меня.
Ее глаза блестят. Слишком. Слезы совсем недалеко. Она перехватывает эстафету и мрачным тоном продолжает:
— Ренегаты торжествуют победу, мятежники стали лакеями, высокомерными лакеями. Они презирают, поднимают на смех "бедных дурачков", которые не смогли приспособиться: "Пассеист!", "Рохля!" Для них нет брани хуже… Левые были у власти вполне достаточно, чтобы показать, до какой степени они, может быть сами того не зная, заражены вирусами пресловутого общества потребления.
Я горячо прерываю ее:
— Нет! Не "сами того не зная". Совсем не так. Эти левые прекрасно все понимают. У них своя роль в большой игре одураченных. Они соглашаются быть приманкой, чтобы заставить поверить, что в политической игре не только деньги. Сегодня они существуют за счет последних остатков великой надежды, которая оказалась ложью. Потому что всегда есть люди, которые не хотят верить, что реальность настолько гнусна, и отчаянно цепляются за лохмотья надежды.
— И мы живем во всем этом. В этой клоаке. Мы подбираем жалкие крохи, чтобы не сдохнуть. Чтобы спасти имидж. Пристойность, не так ли…
Как мы пришли к разговорам о политике? Какое отношение имеет ко всему этому Лизон? Я позволяю себе вольность. Беру за плечи, ищу ее взгляд и спрашиваю в упор:
— Только ли портрет Лизон вы набросали? Не получился ли он немного и вашим собственным?
Ее взгляд избегает моего. Ее нижняя губа дрожит. Она вся — воплощение растерянности и чувства вины.
— Я была сумасшедшей. Время было сумасшедшим. Свобода ударила нам в голову. То, что мы считали свободой и что было только речами о свободе. Мы опьянялись речами, не замечая, что это всего лишь слова. Сотрясение воздуха. Я полюбила. И отдалась любви без расчета. В первый раз молодое поколение открывало любовь без оговорок, без лицемерия. Так называемая сексуальная революция. Он был таким же новичком, как я. Я забеременела. Мне едва исполнилось восемнадцать. Я была беременна Лизон. Я находила это восхитительным. Хотела одна воспитывать моего ребенка, взяв на себя полную ответственность. Разумеется, я видела в этом вызов установленному порядку, но вполне ясно представляла себе будущее. Может быть, что-то смутно говорило мне, что я не была так уж влюблена, как хотела в этом себя убедить, что я себя обманывала… Возможно, именно инстинкт, или называйте это как хотите, толкал меня к тому, чтобы самой быть хозяйкой своей жизни и жизни своего ребенка. Только он, отец, парень из хорошей семьи, не хотел и слышать об этом… Проснулись его буржуазные принципы… Чувство собственности — это ведь и мое? В общем, все та же песенка о правах отцовства… Но может быть, вы тоже отец?
Я утвердительно киваю головой без особой гордости.
— Тогда вы понимаете. Он хотел все "упорядочить". Речь шла не только о вопросе морали. Он любил меня. Или верил, что любит, разве любовь не акт веры? А я, по правде говоря, оказалась не готова к сопротивлению.
Она улыбается одновременно печально и лукаво:
— Видите ли, в этом, как во многом другом, я отличаюсь от своей Дочери. У меня нет такой силы характера, как у Лизон. А она сумела бы настоять на своем. Ее "нет" было бы непререкаемым, чего бы потом ей это ни стоило.
Я киваю. Это правда, она такая, Лизон.
— Мы сняли маленькую двухкомнатную квартиру. Мы ничего не зарабатывали. Его родители помогали нам. Роды были трудными, я очень медленно приходила в себя. И у Лизон первое время было хрупкое здоровье. Короче, мне пришлось оставить учебу, потом найти работу. Еще не было такой безработицы, как сейчас, но все же устроиться было нелегко. Янемного знала английский, научилась печатать намашинке и нашла работу секретарши в одной конторе по импорту-экспорту. Мне приходилось туговато — ясли, покупки, ну, в общем, как всем работающим женщинам. А муж продолжал учебу, он был старше меня на три года, прилежно, всерьез занимался, хотел преуспеть. И преуспел. Благодаря отличному аттестату он сразу же получил место инженера в большой фирме, со скромной зарплатой,но многообещающим будущим. Мы составляли то, что наши умиленные семьи называли "очаровательной парой". А потом что-то произошло. Может, это где-то тлело с самого начала… Я заметила, что он меня презирает. Скорее всего, бессознательно. Но в его отношении ко мне чувствовалось раздражение, которое потихоньку росло и которого уже нельзя было не замечать.