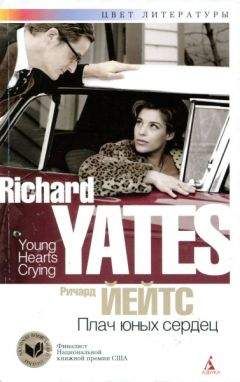И они поехали. Миссис Розенталь отправилась вместе с ними. Когда Дэн вернулся в наш офис, он буквально источал восторг по поводу всего связанного с Гарвардом, включая и само звучание этого слова.
— Билл, ты не представляешь! — говорил он мне. — Нет, это надо увидеть самому! Погулять там, посмотреть, послушать — пропитаться этим духом. Я просто потрясен: в центре огромного промышленного города находится целый небольшой мир чистых идей. Это все равно что соединить воедино двадцать семь Купер-Юнионов!
Было решено, что следующей осенью Фил поступит на первый курс Гарварда, и Дэн частенько стал отмечать, мимоходом и вскользь, что в их доме все будут скучать по этому пареньку.
Однажды вечером, когда мы вышли после работы на улицу, он чуть замедлил шаг, желая, неторопливо прогуливаясь, поведать мне что-то и таким образом снять с сердца некий груз, который, видимо, тяготил его весь день.
— Тебе ведь не раз приходилось слышать весь этот треп насчет того, что, дескать, кому-то «нужно помочь»? — начал он. — Только и слышишь: «ему нужно помочь», «ей нужно помочь», «мне нужно помочь», так? И еще у меня такое чувство, будто почти все, кого я знаю, занимаются психотерапией, словно это новое модное хобби, эдакое сумасшествие, охватившее всю страну, подобно игре в «Монополию» в тридцатые годы. У меня есть приятель, с которым я познакомился в Купер-Юнионе, — умнейший парень, хороший художник, женат, имеет прекрасную работу. Виделся с ним вчера вечером, и он признался мне, что ему надо бы сходить к психоаналитику, но нет денег. Сказал, что подавал заявку на бесплатное лечение в клинике Колумбийского университета, его заставили пройти кучу анализов и тестов, написать о себе целое дурацкое сочинение, а потом взяли и отказали. Он мне и говорит: «По-моему, они просто решили, что я недостаточно интересен для них». Я отвечаю: «То есть?» А он: «Знаешь, у меня такое впечатление, будто они уже досыта наелись этими мамочкиными еврейскими мальчиками». Ну, ты понимаешь, о чем я?
— Нет.
Мы шли в сумерках мимо неоновых вывесок — туристическое агентство, сапожная мастерская, какая-то забегаловка, — и я помню, как внимательно разглядывал каждую из них, словно она могла помочь мне собраться с мыслями.
— Вот я и хочу спросить тебя: что за дела, какой толк в том, чтобы непременно быть «интересным»? Ну-ка отвечай! — потребовал Дэн. — Нам что, всем выпустить себе кишки, чтоб доказать, какие мы «интересные»? Нет уж, такой степени изысканности мне не достигнуть, да и ни малейшим желанием не горю. Ну… — К этому времени мы уже стояли на перекрестке, и, прежде чем уйти, он на прощание помахал мне рукой, в которой держал сигару. — Ну, привет всем домашним!
Всю ту весну я чувствовал себя просто ужасно, причем мне становилось хуже и хуже. Я все время кашлял, и силы совсем покинули меня; я стремительно худел, брюки буквально падали с меня; ночью я просыпался мокрый от пота; а в течение дня моим единственным желанием было найти местечко, где прилечь, хотя во всем «Ремингтон Рэнде» такового не имелось. Потом, в один из обеденных перерывов, я посетил бесплатную рентгеновскую лабораторию и узнал, что у меня продвинутая стадия туберкулеза. Вскоре мне посчастливилось попасть в госпиталь для ветеранов на Стейтен-Айленде, и хотя в итоге мне повезло и я не отошел в мир иной, но от мира бизнеса отойти пришлось.
Уже потом я прочел, что туберкулез не просто входит в список «психосоматических заболеваний», но и находится в самой верхней его части: утверждают, будто ему особо подвержены люди, уверенные, что в обстоятельствах невыносимо тяжелых им пришлось особенно туго. Ну что ж, может, так оно и есть. Но тогда я думал о том, как хорошо себя чувствуешь, когда тебя обнадежат — или хотя бы просто прикрикнут на тебя, как это делала служившая некогда в армии деспотичная медсестра в стерильной маске, велевшая мне лечь на койку и не вставать. Так я и пролежал восемь месяцев. В феврале 1951 года меня выписали на амбулаторное лечение в любой из одобренных Администрацией по делам ветеранов клиник, «имеющихся по всему миру». Данная фраза прозвучала в моих ушах сладкой музыкой, и, более того, мне сообщили, что моя болезнь квалифицировалась как «инвалидность, связанная с несением службы», это давало мне возможность получать двести долларов в месяц до тех пор, пока мои легкие опять не станут чистыми, а также право на единоразовую компенсацию задним числом в размере двух тысяч долларов наличными.
Мы с Эйлин даже и не мечтали, что когда-нибудь судьба так улыбнется нам. Как-то раз, поздно вечером, когда я принялся строить планы на будущее, размышляя вслух, вернуться ли мне в «Ремингтон Рэнд» или, может, стоит поискать работу получше, Эйлин вдруг заявила:
— Давай мы все-таки сделаем это.
— Сделаем что?
— Ты что, забыл? Поедем в Париж. Потому что если мы не сделаем это сейчас, пока еще молоды и способны на авантюрные поступки, то вообще никогда уже больше не увидим его.
Я не верил своим ушам. В эту минуту Эйлин выглядела почти так же, как когда-то на сцене, принимая аплодисменты после исполненного ею монолога из «Мечтательницы», но в выражении ее лица было что-то и от «крутой» секретарши, позволявшее предположить, что из нее выйдет стойкая путешественница.
И после этого все закрутилось очень быстро. Следующее, что мне отчетливо запомнилось, был вынужденно ужатый прощальный прием, устроенный прямо на пароходе, в нашей «отдельной каюте туристического класса», на борту лайнера «Юнайтед Стейтс». Эйлин пыталась перепеленать нашу дочку, устроив ее на верхней койке, но это оказалось непросто — так много народу столпилось в тесном помещении. Моя мать тоже была здесь: она сидела на краю нижней койки и ровным голосом рассказывала всем о Национальной ассоциации женщин-художниц. Также мы пригласили некоторых служащих из «Ботани-Миллз» да еще несколько случайных знакомых, и, конечно, Дэн Розенталь тоже пришел. Он принес бутылку шампанского и игрушку ручной работы, верно очень дорогую, нечто вроде тигра, которую наша малышка не оценит, наверное, еще пару лет. Это экзальтированное сборище Эйлин окрестила, как я сам несколько раз слышал, пока она договаривалась о нем по телефону, «наше маленькое морское soignée». Я подозревал, что она перепутала французские слова «чрезмерный» и «вечеринка», но мое владение этим языком было не такое, чтоб я решился ее поправить. Спиртное лилось рекой, но, похоже, в основном в глотку моей матушки, одетой в элегантный весенний костюм с дорогой шляпкой, украшенной перьями, которую она скорее всего купила специально для этого случая.
— …Да, но, видите ли, мы единственная в стране общенациональная организация, и теперь количество наших членов исчисляется несколькими тысячами, а потому, конечно, каждый, кто хочет вступить в ее ряды, должен представить веские доказательства своей профессиональной состоятельности в качестве художника, прежде чем мы вообще начнем рассматривать соответствующую заявку, так что мы на самом деле очень и очень… — И чем глубже она погружалась в свой монолог, тем шире позволяла разойтись в стороны своим коленям, на которые опиралась руками, пока наконец темный край ее мешковатых трусов не стал виден всем гостям, сидящим напротив. Это был ее старый просчет. Она так и не научилась понимать, что, если человек видит твои трусы, ему уже все равно, какая на тебе шляпка.
Дэн Розенталь ушел раньше всех, еще до того, как прозвучал первый гудок. Сказав, что был очень рад познакомиться с моей матерью, он пожал ей руку, а затем с погрустневшим лицом повернулся к Эйлин и протянул ей обе руки. Она перестала пеленать ребенка и, по всей видимости, также замечать всех остальных гостей.
— О Дэн! — воскликнула она, такая прекрасная в своей печали, и тут же на мгновение прильнула к нему.
Я видел, как он непослушными пальцами несколько раз похлопал ее по талии.
— Приглядывай за моим другом и многообещающим писателем, позаботься о нем, — проговорил он.
— Да, конечно… только смотри, Дэн, и ты заботься о себе, ладно? Ты обещаешь писать?
— Разумеется, — заверил он ее. — Разумеется. Само собой.
Затем он отпустил ее, и я, демонстрируя верх любезности по отношению к нему, отправился проводить его вверх по лестнице, ведущей на главную палубу, и потом до самого трапа. При подъеме у нас обоих скоро появилась одышка, поэтому в какой-то момент мы остановились передохнуть на небольшой, пахнущей краской площадке.
— Так значит, ты решил прислать нам целую кипу рассказов? — спросил он.
— Именно. — И лишь весьма смутно сознавая, что переиначиваю слова самого Дэна, сказанные в связи с его планами перебраться в Левиттаун, я произнес: — Да я бы, не вставая, писал там день и ночь!
— Ну и хорошо, — ответил он. — Получается, ты отлично обошелся без той поганой художественной школы. И не нужно лукавить, притворяясь художником, увиливать от занятий и вступать в сговор с этими «очень легкомысленными» французами с целью ограбить Соединенные Штаты. Это хорошо. Это замечательно. Ты поедешь на собственные деньги, которые заработал собственными проклятыми легкими, и я тобой горжусь. Ей-ей.