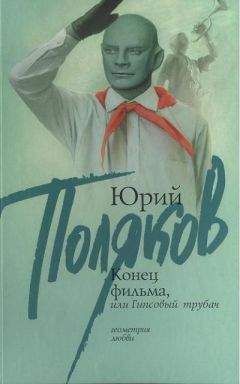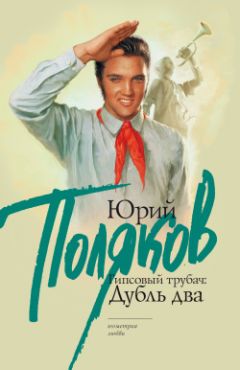— В Аптекарском огороде, — ответила Нинка. — Петр. Первый. Основал. — Она снова взяла его за руку, как в первом классе, когда их заставляли гулять на переменах парами. — Пошли!
Налево уходила липовая аллея, долгая и тенистая. Впереди виднелся кирпичный фасад старинной оранжереи, а перед ней — длинный, окаймленный деревянным бордюром и газоном водоем с мутно-зеленой водой. Справа поднимались купы деревьев и заросли цветов. Кокотов недоумевал, как сумел этот зеленый остров в центре каменной Москвы пережить революции, реконструкции, войну, но в особенности — последние времена, когда земля в центре вздорожала, и новые дома ухитрялись воткнуть там, где прежде едва умещались хоккейная «коробка» или собачья площадка. Впрочем, город уже вплотную обступал оазис. Сзади высоченной неряшливой стеной тянулась кирпичная изнанка лепного проспекта Мира. Впереди виднелись советские жилые коробки — серые панельные для простонародья и «цековские», сложенные из кремового спецкирпича. Но и они выглядели теперь какими-то приютами неудачников рядом с сияющими яркими оберточными расцветками затейливых сооружений, построенных в виде цилиндров, усеченных пирамид, многогранников. На одном из новых фасадов виднелась растяжка: «Квартиры от застройщика!» Дома подошли так близко, что казалось, они склонились над «Аптекарским огородом», чтобы получше разглядеть и запомнить это обреченное недоразумение природы, замешкавшееся среди конечного торжества бетона, пластика и стекла.
— Нет, это не аптекарский, это райский огород! — вымолвил писодей.
— Хорошо. Сказал. С чего. Начнем?
— Не знаю…
— Тогда с миксбордера!
— Отлично! — поддержал Кокотов, не понимая, о чем речь.
Они свернули направо и пошли по дорожке, петляющей между деревьев, кустарников и замысловатых растений. Рядом были воткнуты таблички с названиями на русском и латыни. К примеру, огромные лопухи, под которыми мог бы скрыться ребенок на велосипеде, назывались «Пелтифиллум щитоносный». Названия были странные, непривычные, и одноклассники затеяли игру — выискивали самые забавные растительные имена, со смехом объявляя их друг другу.
— Фиалка удивительная! — со значением прочел на табличке писодей.
— Лунник оживающий! — отозвалась Нинка.
— Лилия слегка волосистая! — усмехнулся автор «Кентавра желаний» и посмотрел на бывшую старосту со значением.
— Листовник сколопендровый! — парировала она.
— Снежноягодник! — не уступил Андрей Львович.
— Весенница зимняя. Странное. Название. Правда? — грустно сказала Валюшкина и присела возле маленьких невзрачных листочков, торчащих из травы.
— Странное, — согласился Кокотов. — А какая она?
— Не знаю. Она в марте цветет. Пошли! Рыбок. Смотреть.
Нинка подвела его к водоему, упиравшемуся в кирпичный фасад старинной оранжереи. Одноклассники встали на мостике и, опершись на перила, стали смотреть на воду, зеленую и настолько мутную, что плававшие в ней большие, с хорошего подлещика, золотые рыбки казались размытыми, извивающимися оранжевыми пятнами, которые дружно устремлялись к осеннему листочку, упавшему с веток в воду.
— Их. Хлебом. Кормят, — объяснила Нинка.
Эти разноцветные осенние листочки, погоняемые ветром, казалось, играли в какую-то крошечную, лилипутскую регату. Кокотов вспомнил настойчивое желание Натальи Павловны, уменьшив, поселить его в своей сумочке, и вообразил, как, став размером с полмизинца, скользит по воде на желтом березовом листочке, точно на серфинге.
— …жу? — спросила Валюшкина.
— Что? — не понял замечтавшийся писодей.
— Как. Я. Выгляжу? — с некоторой обидой повторила она.
— Фантастика! — совершенно искренне отозвался автор романа «Женщина как способ».
— Почему. Сам. Не сказал?
— Я хотел, потом… специально… — промямлил он, удивляясь, отчего не догадался похвалить школьную подругу за внешний вид.
— Знаешь. Некоторые… Новую кофточку наденут — и весь банк бежит: «Ах, как вам идет! Ах, какая вы сегодня!» А мне почему-то никто комплиментов не делает. Нет, делают, конечно, но только если что-нибудь нужно по работе. Кокотов, может, я просто некрасивая?
Видимо, эта проблема так давно и глубоко волновала Валюшкину, что она даже на минуту очнулась от своей телеграфной манеры говорить.
— Ну, что ты, Нин, ты просто роскошная женщина!
— Да?
— Конечно!
— В бассейне тренер думает, мне тридцать пять!
— Я бы тоже так подумал… — неловко поддакнул Андрей Львович.
— Да. Ну. Тебя! — обиделась бывшая староста, почуяв неискренность. — Мое. Любимое. Место. Не покажу!
Кокотов вздохнул, наклонился и поцеловал ее возле уха, успев уловить простоватый в сравнении с Обояровой, но ласковый запах духов. Она снова взяла его за руку, но уже не как ребенка, а по-другому, с робкой настойчивостью, и повела вглубь парка. Они прошли мимо зеленой лужайки с огромной лиственницей.
— Триста. Лет! — со значением сообщила Валюшкина.
— Угу! — понимающе кивнул писодей.
Пройдя под зелеными сводами длинной и полукруглой, как тоннель, перголы, увитой резными виноградными лианами, они вышли к пруду, вырытому, как сообщала табличка, в восемнадцатом веке. Темная кофейная вода, подернутая ряской, таинственно стояла в неровных берегах, поросших осокой, крапивой и рогозом с коричневыми бархатными султанами. Посредине пруда виднелся небольшой травяной островок.
— Вот, — сказала она. — Мое. Место. — И показала на странную древнюю иву у самой воды.
Толстое корявое дерево, вырастая, едва приподнялось над корнями и снова тяжко опустилось на землю, став похожим на лежащее тулово огромной рептилии, вроде Змеюрика. Но потом, утончаясь, ствол снова изогнулся и пошел вверх, словно шея диплодока, тянущегося за свежими листочками.
— Давай. Тут. Посидим! — предложила Нинка.
Они устроились на стволе, въевшемся в землю, как древняя колода. Некоторое время молчали, пересчитывая желтые кувшинки и следя за утками. Пернатая пара бороздила темную воду, распространяя волны, которые покачивали ряску и шуршащую осоку.
— У них. На всю. Жизнь, — кивнула на птиц бывшая староста.
— Угу.
— А ты. Чего. Развелся? — вдруг спросила она.
— Я? Да так… Жена ушла.
— Куда?
— К другому.
— Как. Это? — Валюшкина спросила с неподдельным изумлением, словно впервые в жизни услышала о том, что жены иногда бросают мужей.
— Вот так.
— Молодого нашла?
— Нет, старого, но богатого.
— Дура. Дети. Есть?
— Дочь. Настя.
— Сколько. Лет?
— Погоди, — Кокотов стал высчитывать. — Двадцать пять.
— На тебя. Похожа?
— Не знаю.
— Как. Это. Не знаешь?
— Я дочь видел в последний раз, когда ей был годик.
— А потом?
— Потом Елена вышла замуж за другого, и он ее удочерил.
— Старик?
— Нет, за старика вышла Вероника, а Лена вышла за молодого. Офицера.
— Запутал. Летун! — с осуждением проговорила бывшая староста.
— Так получилось. Но ты мне всегда нравилась, — чуть в нос признался «Похититель поцелуев» и стал медленно склоняться к Нинке с лобзательным намерением.
— Поздно, Дубровский! — усмехнулась она и загородилась букетом. — Пошли. Поедим.
…Ресторан оказался пуст, точно располагался не в центре Москвы, а в каком-то умирающем поселении, где закрыли главный завод, и народ постепенно разъехался в поисках заработков. В зале томились две нерусские официантки и быковатый бармен, тоскующий в обществе невостребованных бутылок. Одноклассники устроились на веранде у окна, откуда открывался вид на липовую аллею. Там на лавочках одинокие женщины с книгами дожидались своих единственных мужчин. Там же гуляли, обнявшись, влюбленные, среди которых, возможно, были и книжницы, дочитавшиеся до личного счастья. И как результат, молодые мамы катили по аллее коляски, иногда останавливаясь и нежно склоняясь над невидимыми с веранды младенцами.
Несмотря на отсутствие посетителей, официанты долго не брали заказ. Наконец к ним подошла узкоглазая девчушка с бейджиком «Гулрухсор» на груди. Она положила на стол две кожаные тисненые папки — в таких при Советской власти, отправляя на заслуженный отдых, вручали бодрым пенсионерам прощальные адреса от безутешного коллектива. Андрей Львович раскрыл меню, вчитался, и Внутренний Жмот затомился, сравнивая здешние цены с «Царским поездом».
— Ты. Что. Пьешь? — Спросила Валюшкина.
— Я… я… — Кокотов заметался взглядом по страницам, ища вино подешевле, но вовремя спохватился и, мысленно отхлестав Внутреннего Жмота по щекам позорным «Сюрпризом Подмосковья», выбрал самое дорогое вино. — Шато Гранель 2005-го…
— Ого! — сказала Нинка.
— Это, конечно, не гаражное вино, но пить можно.