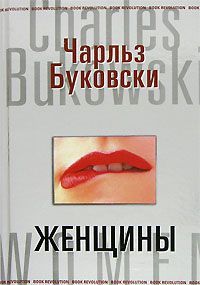– Когда тебе на работу? – спросил я.
– А тебе хочется меня туда спровадить?
– Нет, но тебе ведь нужно жить.
– Ты же сам не работаешь.
– В каком-то смысле – работаю.
– То есть ты живешь, чтобы писать?
– Нет, просто существую. А потом, позже, пытаюсь вспомнить и что-то записать оттуда.
– Я веду танцевальную студию только три вечера в неделю.
– И сводишь концы с концами?
– Пока да.
Мы углубились в поцелуи. Она пила гораздо меньше, чем я. Мы перешли на водяную постель, разделись и приступили. Я раньше слыхал про еблю на водяном матрасе. Предполагалось, что это здорово. Я обнаружил, что это сложно. Вода содрогалась и колыхалась под нами, а когда я двигался вниз, вода словно раскачивалась из стороны в сторону. Вместо того чтобы приближать Лайзу ко мне, вода, казалось, отодвигала ее от меня. Может, тут нужна практика. Я исполнил свою дикарскую программу – хватал за волосы и засаживал так, словно это изнасилование. Ей нравилось, или она делала вид, тихонько и восхитительно вскрикивала. Я еще немного над ней поизмывался, затем у нее, по всей видимости, неожиданно случился оргазм – кричала она, во всяком случае, правильно. Это меня подхлестнуло, и я кончил как раз в конце ее конца.
Мы подчистились и вернулись к подушкам и вину. Лайза уснула, положив голову мне на колени. Я сидел еще с час. Потом вытянулся на спине, и мы так и проспали всю ночь на этих подушках.
На следующий день Лайза взяла меня с собой в танцевальную студию. Мы купили сэндвичей в забегаловке через дорогу, захватили их вместе с напитками в студию и там съели. Очень большая комната на третьем этаже. В ней ничего не было, кроме голого пола, кое-какой стереоаппаратуры, нескольких стульев, а высоко над головой через весь потолок тянулись какие-то веревки.
– Научить тебя танцевать? – спросила она.
– Да я как-то не в настроении, – ответил я.
Следующие дни и ночи были похожи. Не плохо, но и не клево. Я научился управляться на водяной постели чуточку лучше, но по-прежнему для ебли предпочитал нормальную кровать.
Я пожил у Лайзы еще 3 или 4 дня, потом улетел обратно в Л. А.
Мы продолжали писать друг другу письма.
Месяц спустя она снова объявилась в Лос-Анджелесе. На сей раз, когда она подходила к моей двери, на ней были брюки. Выглядела иначе, я не мог это объяснить, но – иначе. Мне совсем не понравилось рассиживать с нею, поэтому я возил ее на бега, на бокс, в кино – все, что делал с женщинами, которыми наслаждался, – но чего-то не хватало. Мы по-прежнему занимались сексом, но это больше не волновало, как раньше. Словно мы были женаты.
Через пять дней Лайза сидела на тахте, а я читал газету, и Лайза сказала:
– Хэнк, не получается, правда?
– Да.
– Что не так?
– Не знаю.
– Я уеду. Я не хочу здесь оставаться.
– Успокойся, не настолько же все плохо.
– Я просто ничего не понимаю. Я не ответил.
– Хэнк, отвези меня к Дворцу освобождения женщин. Ты знаешь, где это?
– Да, где-то в Уэстлейке, там раньше художественная школа была.
– Откуда ты знаешь?
– Я туда как-то возил другую женщину.
– Ах ты гад.
– Ну ладно, ладно…
– У меня подруга там работает. Я не знаю, где у нее квартира, а по телефонной книге найти не могу. Но знаю, что она работает во Дворце освобождения. Поживу у нее пару дней. Просто не хочется возвращаться в Сан-Франциско в таком состоянии…
Лайза собралась, сложила вещи в чемодан. Мы вышли к машине, и я поехал в Уэстлейк. Я как-то возил туда Лидию на выставку женского искусства, где она показывала несколько своих скульптур.
Я остановился перед зданием.
– Я подожду, вдруг твоей подруги нет.
– Все в порядке. Можешь ехать.
– Я подожду.
Подождал. Лайза вышла, помахала. Я помахал в ответ, завел машину и уехал.
Я сидел в одних трусах как-то днем неделю спустя. Нежно постучали в дверь.
– Минуточку, – сказал я. Надел халат и открыл.
– Мы – две девушки из Германии. Мы читали ваши книги.
Одной на вид лет 19, другой, может, – 22.
У меня выходила в Германии пара-тройка книг ограниченными тиражами. Я сам родился в Германии в 1920 году, в Андернахе. Дом, где я жил в детстве, теперь стал борделем. Говорить по-немецки я не умел. Зато они говорили по-английски.
– Заходите. Они сели на тахту.
– Хильда, – сказала 19-летняя.
– Я Гертруда, – сказала 22-летняя.
– Я Хэнк.
– Мы думаем, что у вас книги очень грустные и очень смешные, – сказала Гертруда.
– Спасибо.
Я ушел в кухню и нацедил 3 «водки-7». Начислил им и начислил себе.
– Мы едем в Нью-Йорк. Решили заглянуть, – сказала Гертруда.
Затем они рассказали, что были в Мексике. По-английски говорили хорошо. Гертруда потяжелее, почти толстушка; сплошные груди и задница. Хильда – худая, похоже, что постоянно под каким-то напрягом… странная и будто у нее запор, но привлекательная.
Выпивая, я закинул одну ногу на другую. Халат мой распался.
– О, – сказала Гертруда, – у вас сексуальные ноги!
– Да, – подтвердила Хильда.
– Я знаю, – сказал я.
Девчонки остались и поддержали меня в выпивке. Я сходил и сочинил еще три. Когда садился вторично, убедился, что прикрыт халатом как должно.
– Вы, девчонки, можете тут остаться на несколько дней, отдохнете.
Они ничего не ответили.
– Или не оставайтесь, – сказал я. – Страху нет. Можем просто поболтать. Мне от вас ничего не нужно.
– Наверняка вы знаете много женщин, – сказала Хильда. – Мы читали ваши книги.
– Я пишу фикцию.
– Что такое фикция?
– Фикция – это приукрашивание жизни.
– То есть врете? – спросила Гертруда.
– Чуть-чуть. Не очень.
– А у вас подружка есть? – спросила Хильда.
– Нет. Сейчас нет.
– Мы останемся, – сказала Гертруда.
– У меня только одна кровать.
– Это ничего.
– И еще одно…
– Что?
– Чур, я сплю посередине.
– Ладно.
Я продолжал смешивать напитки, и скоро у нас все кончилось. Я позвонил в винную лавку.
– Я хочу…
– Постойте, друг мой, – отвечали мне, – мы не делаем доставку на дом до шести вечера.
– Ах вот как? Я тебе в глотку вбиваю по двести долларов в месяц…
– Это кто?
– Чинаски.
– А, Чинаски… Так чего вы хотите? Я ему сообщил. Потом:
– Знаете, как сюда добраться?
– Ода.
Он прибыл через 8 минут. Толстый австралиец, вечно потеет. Я взял две коробки и поставил их в кресло.
– Привет, дамы, – сказал толстый австралиец. Те не ответили.
– Сколько там с меня, Арбакл?[17]
– Ну, всего семнадцать сорок девять.
Я дал ему двадцать. Он начал рыться в карманах, ища мелочь.
– Что, делать больше нечего? Купи себе новый дом.
– Спасибо, сэр!
Затем он склонился ко мне и тихо спросил:
– Боже мой, как у вас это получается?
– Печатаю, – ответил я.
– Печатаете?
– Да, примерно восемнадцать слов в минуту. Я вытолкал его наружу и закрыл дверь.
В ту ночь я забрался с ними в постель и лег посередине. Мы все были пьяны, и сначала я сграбастал одну, целовал и щупал ее, потом повернулся и схватил другую. Так я перемещался туда и обратно, и это было весьма утешительно. Позже сосредоточился на одной надолго, потом перевернулся и перешел на другую. Каждая терпеливо ждала. Я был в смятении. Гертруда горячее, Хильда – моложе. Я вспарывал зады, лежал на каждой, но внутрь ни одной не засовывал. Наконец остановился на Гертруде. Но сделать ничего не смог. Слишком пьян. Мы с Гертрудой уснули, ее рука держала меня за письку, моя рука – у нее на грудях. Мой член опал, ее груди оставались тверды.
На следующий день было очень жарко, а пьянства – еще больше. Я позвонил и заказал еды. Включил вентилятор. Разговоров было немного. Этим немочкам выпивать нравилось. Затем обе вышли и уселись на старую кушетку на переднем крыльце – Хильда в шортиках и лифчике, а Гертруда – в тугой розовой комбинашке, без лифчика и трусиков. Зашел Макс, почтальон. Гертруда взяла у него мою почту. Беднягу Макса чуть Кондрат не хватил. В глазах у него я видел зависть и неверие. Но, как ни верти, у него работа гарантированная.
Около 2 часов дня Хильда объявила, что идет гулять. Мы с Гертрудой зашли внутрь. Наконец это действительно произошло. Мы лежали на кровати и проигрывали начальные такты. Через некоторое время приступили. Я взгромоздился, и он вошел внутрь. Но вошел как-то резко и сразу же принял влево, словно там был изгиб. Я припоминал только одну такую женщину – но тогда было здорово. Потом я задумался: она меня дурачит – на самом деле я не внутри. Поэтому я вытащил и засунул повторно. Он вошел и опять круто свернул влево. Что за говно. Либо у нее пизда перекосоеблена, либо я не проникаю. Я все убеждал себя, что это у нее пизда ни к ебаной матери. Я качал и трудился, а он все гнулся и гнулся влево под этим острым углом.