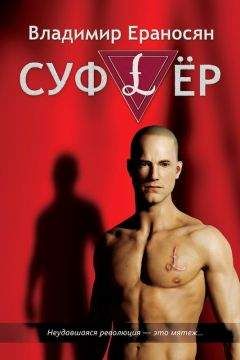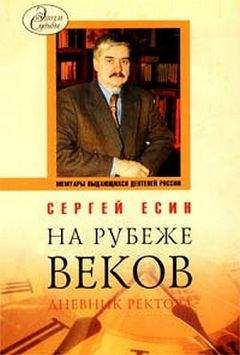— Риск есть всегда. Рецидива может и не быть. Я, правда, не великий окулист Федоров, но я привык отвечать и за свои слова и за качество сделанной мною работы…
В спокойной, размеренной манере речи Екатерины Борисовны чувствовалось напряжение и внутреннее противоборство словам врача, только чем она недовольна? Ведь врач предлагает единственно возможный выход, и Сережа давно твердит ему, Алексею Макаровичу, что катаракту надо снимать. Ведь как тяжело и унизительно воспринимать ему жизнь словно в тумане, словно припорошенную пеплом, все время вспоминать, какой он запомнил когда-то герань на подоконнике, облака в небе, фактуру пластика в лифте, как изнуряет его это узнавание. Он, Алексей Макарович, хочет видеть, разве он не заслужил жизнь, ведь и воевал он, принял такие муки от вражеского железа, чтобы жизнь была полнокровной, он и теперь готов все вытерпеть, как солдат, все снести, чтобы последнюю горсть своих дней прожить так, чтобы видеть красоту мира. Она, Екатерина Борисовна, думает, что годы подточили его терпение, она жалеет его.
— Да вытерплю я все, Катенька, я же крепкий, справлюсь. Справимся, как тогда, помнишь, в госпитале.
Голос Екатерины Борисовны по-прежнему ровен, но по-прежнему звучит в нем внутреннее напряжение:
— Это все значительно сложнее, Алексей. Ты подумай, а вдруг? — и уже обращается через паузу, возникшую от этой страшной мысли, к врачу — Давайте отложим вопрос об операции. Алексею Макаровичу надо посоветоваться с сыном.
— Почему надо откладывать операцию?
— Почему, Катенька?
…Нет уж, сыну всей этой стыдной сцены Алексей Макарович рассказывать не станет. Ведь это его свободная интерпретация чужих поступков. Да, конечно, ему прямо надо признать, что поднасела на него семейка: и Наташа — то ей билет на дефицитный спектакль в театр, он и толчется перед открытием кассы с самого утра, и Гриша — то нужно достать тесу, то шифера, то цемента, и Екатерина Борисовна — то иди вместе с ней в «Синтетику», где что-то выбросили, то езжай в «Лейпциг» покупать что-то из дамской сбруи для ее сестры, но ведь семья и создает ему климат, в котором он живет, дом, теплом которого он пользуется. Он просто устал. Ему не надо озлобляться, кого-либо винить, но надо жить по-своему. И зачем здесь какие-то глобальные слова — «жить»? По-своему поступать. Сейчас на старости его, домоседа, манит дорога, манит вокзал, угарноватый запах каменного угля от вагонов, резкая живая струя ветра в раскрытое окно. Манит? Значит, надо ехать. Значит, надо так поступать. И спрятав, как только мог, все беспокойство, все свои сомнения, Алексей Макарович сказал:
— Нет, Сережа, если по чистой правде, то, может, и смирился, но очень хочется побывать в тех местах, где воевал, где когда-то жил, может быть, кого-нибудь и застану. Но может, все это глупость, старческие психозы, и мы сейчас разберем с тобой вещмешок, я пойду в магазин за продуктами, ты вернешься в больницу, и никого не будем волновать.
— Да ты, папаня, что? Я ведь для тебя и деньги со сберкнижки снял. Когда мне мачеха позвонила, я сразу догадался, что ты не заболел, а захандрил. Я ведь твой сын, немножечко знаю нашу породу. Ты же давно мечтал поехать под Калининград. Там ты танк таранил? Я ведь тоже виноват перед тобой, влез в ваши с матерью взрослые дела. Стыдился немножко тебя. Сын инвалида войны. Ну ранен, дескать, у меня отец. Но зачем, думал, столько рассказов. А ты всегда повторялся, повторялся, рассказывал одно и то же.
— Что было, то и рассказывал.
— Ты теперь молчи, отец, теперь я буду оправдываться. А я попросил пять лет назад своего друга, который работает в госпитале Бурденко, востребовать из архива твою историю болезни. И там все точно, по твоим рассказам. И даже записка командарма в госпиталь. Записка о рядовом водителе танка, о лейтенанте. «Сделайте все, что только можно, — это человек исключительной смелости и преданности родине. Командарм…».
— Это уже последнее ранение, когда мне пришлось таранить танк. Танковый таран. А записка была английской булавкой прикреплена мне на груди, когда я лежал на носилках.
— Я это, папаня, слышал раз двадцать. Хватит тебе вспоминать. Кто думает, что ты выживший из ума, надоедливый, мешающий всем жить старик, бог с ними, им ничего не докажешь. Себе надо доказывать, только себе. Ты должен себе доказать, что ты жив. Человек сам выбирает себе свою судьбу. Ты не волнуйся за Екатерину Борисовну и Наташу. Я все беру на себя. Я, как сын, как врач, готов отвечать за тебя. Езжай. Обойди всех своих товарищей, которые еще живы. А приедешь через месяц-пол-тора, положим тебя в госпиталь. Снимем катаракту… Снимем! Видеть ты будешь!..
Через два дня Алексей Макарович стоял на опушке. Перед ним лежала зеленая сочная равнина с редкими островами, рощицами.
За дорогу у Алексея Макаровича со зрением стало хуже, и эту равнину, и купы деревьев, и несколько хуторских построек у линии горизонта он почти не видел. Но свежий с запахами июльской вызревшей травы воздух был тот же. Теми же были порывы ветра с резковатым привкусом близкого моря. И солнце, падающее на лицо из широких разводьев облаков, так же грело лицо. И Алексею Макаровичу казалось, что он видит всю огромную долину в прежних подробностях. Он видел всю картину боя. Бойцов, мелькающих далеко впереди на подступах к вражеским рубежам. Свежие разрывы и распадающиеся, размытые дымы над воронками. Он видел и строй наших танков, укрытых на выездах между березами. Танкисты стояли возле машин. Молодые лица их были мужественны и серьезны. Алексей Макарович узнавал многих своих знакомых бойцов и офицеров.
И слева от строя танков, чуть выдвинувшись вперед к полю, стояли маршал и офицеры штаба армии и среди них, резко выделяясь комбинезоном, был их командир полка, как и все танкисты, невысокого роста.
А на поле все так же медленно разворачивалась атака. Фигуры бежавших короткими перебежками бойцов становились меньше, поднимались белые хлопья разрывов, и вдруг из-за редких рощиц на горизонте показались коробочки вражеских танков. Настал мой час, подумалось тогда Алексею Макаровичу.
Командующий взглядом подозвал командира полка, командир развернулся на каблуках, побежал к своим танкистам, все мгновенно приготовились лезть по машинам, и в это мгновение командир крикнул:
— Лейтенант Рассудков, ко мне!
Алексей Макарович встрепенулся, ведь как-никак звали его, и, натягивая на ходу шлем, побежал к командиру.
— Товарищ полковник, лейтенант Рассудков по вашему приказанию прибыл.
— Вот что, Рассудков, — сказал командир, — сейчас начнется наша танковая контратака, и у тебя особое задание. Ты посмотри — новые фашистские машины идут. Слыхал о них? Артиллерия здесь не поможет. Один танк должен остаться на поле. Он нужен нам, чтобы знать, как с ними бороться. Нашим инженерам нужен… Ты понял, Рассудков?
— Значит, таран, товарищ полковник?
— Выполняй приказание, Рассудков. — И не успел еще Алексей Макарович подбежать к своей машине, как полковник закричал: — По машинам! Заводи моторы!
Но еще до того как Алексей Макарович сел за рычаги, он сказал своему механику:
— Саша, выходи из машины. В бой не пойдешь! Я один.
— Да не брошу я тебя, Алексей.
— Исполняй приказ!
В щели перископа поле казалось удивительно зеленым. Зеленое разнотравье, кое-где развороченное чернотой разрывов, долго тянулось, пока танки выезжали на позиции.
Ревели дизели. По броне щелкали осколки и пули. «Лишь бы не подбили раньше времени», — подумал Алексей Макарович. Наконец в перископе показалась вражеская машина. Алексей Макарович, меняя скорость и направление, стал подбираться все ближе и ближе, пока невероятная стальная махина не заслонила собой почти весь горизонт. Теперь пора. Алексей Макарович отжал педали, газ, прицелился, приноровился, чтобы попасть не лоб в лоб, а наискосок, в траки, и пошел, пошел, только приговаривал про себя: «Давай, миленький, давай, продержись еще немножко!»
Он очнулся, когда его переложили на носилки. Чей-то голос сказал:
— Возьмите мой личный самолет. Я напишу записку.
Алексей Макарович хотел открыть глаза, но не смог, а только дрогнул ресницами, что, дескать, слышит.
— Ну, что, выживешь, молодец? — спросил тот же властный голос. И Алексей Макарович понял, что обращаются к нему, и хотел сказать: «Выживу», — но не смог и сказал это слово про себя и потом повторял его, пока сознание снова не закрылось: «Выживу, выживу, выживу, выживу, выживу, выживу»…
…Ах, какое зеленое поле расстилалось перед Алексеем Макаровичем в тот день, когда он наконец добрался до него. Было так тихо, так зелено блестела созревшая к укосу трава, и так широко расстилались холмистые дали.
Оно было удивительное — поле. Алексей Макарович отчего-то разглядел на нем все. И фиолетовое мерцание клевера, и шмеля, в невероятно трудной посадке, как вертолет при ветре, приземляющегося на цветок, и белоствольные перелески берез вдалеке, и на горизонте домики селений, и возникшие, видимо недавно, белые силосные башни. Он стоял и чувствовал, как от пьянящего свежего воздуха кружится голова и как, проникая через подошвы стоптанных ботинок, поле вливает в него прежние молодые силы. Уже молодыми стали ноги, горячая волна поднимается все выше, выше, доходит до сердца. Он стоит, одинокий, старый человек, слезы текут у него по лицу, и он как клятву повторяет: «Выживу, выживу, выживу…»