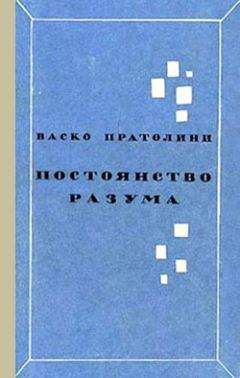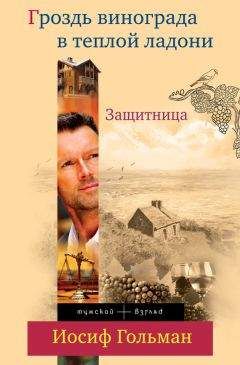– Тогда все обошлось бы без лишних препирательств… – согласился он. – Я для того тебе и предложил, правда, в шутку, боялся, что ты разозлишься. Но раз ты все понимаешь…
– Я прежде всего хотел бы разобраться в обстановке.
– Есть и другой выход, он, пожалуй, надежней любых объяснений с дирекцией или вмешательства Палаты труда.
– Пойти к отцу Бонифацию, что ли?
– Дело ограничится легким покаянием. Он даже поначалу не заставит тебя ходить к мессе и уж конечно не станет требовать, чтобы ты отказался от знакомства со мной. С него, пожалуй, достаточно будет, если ты к нему Сам обратишься. Отца твоего на войне убили – его школа создана для таких, как ты. Стоит ему словечко замолвить, и ты пройдешь на завод под звуки фанфар.
– Но я давно уже отверг этот путь.
– Однако он все же честней других. Отец Бонифаций мой противник, но это не поп, а настоящий мужчина.
– Постараюсь как-нибудь обойтись без святой водицы. Я не Джо, который только и думает о боге и цвете кожи. Место на заводе принадлежит мне по праву, там работал мой отец, у меня диплом, мне поставили высокий балл за пробную деталь.
– Я тебе только советую.
– Твой совет для меня неприемлем.
– Что ж, учту.
– Этого мало, ты мне должен помочь. Ты работаешь в профсоюзе, это твой долг.
– Разве я тебя не для этого разыскивал?
– До чего вы оба любите пошуметь! – воскликнула Лори. – Поцелуйтесь-ка лучше!
Милло словно только и ждал этого предложения, он вынул изо рта сигару, перегнулся через стол, я почти машинально подставил ему щеку, но что-то тотчас во мне возмутилось, и, желая сдержаться, я обратился к Лори:
– Видишь теперь, что это за человек? Он всегда так меня доводит! Даже не понимает, насколько все это важно для меня… Отказаться от «Гали», легко сказать…
Лори взяла меня за руку:
– Миллоски же шутит, разве не видишь? Вы меня простите, Миллоски, если я неправа. Вы, наверно, боялись, что Бруно себя поведет иначе, не выдержит испытания?
В который раз он привычным жестом пригладил волосы, расправил усы. Видно было, что разговор взволновал его.
– Пожалуй, – ответил он. – По правде говоря, ребята, надо бы мне почаще с вами бывать. Рядом с вами дышится легче. – В нем снова заговорил мужчина, волевой и сильный, недаром прозванный Волком, – партизанский вожак с красным платком на шее, фрезеровщик с мозолистыми руками, человек, которого взяла на пенсию партия. – Я уже принял меры, какие только возможно… Боюсь, что он не откажется от меня и от идей, которые ему приписывают… – И, обращаясь непосредственно ко мне: – При данной обстановке, при теперешнем правительстве, при этой дирекции, боюсь, никогда тебе не войти в ворота «Гали». Я очень хотел бы ошибиться.
Опустили жалюзи. Официант унес стаканы, мы расплатились. Вышли, ветер еще усилился, он гнал облака, подметая улицы. В лунном свете серебрились ворота, за которыми виднелась карнавальная колесница, тротуар напоминал отгороженную домами беговую дорожку.
– Я мог бы тебя подвезти, пожалуй, – сказал он Лори. – Машина дрянная, конечно, но в ней все же не так дует. Впрочем, не знаю, окажешь ли ты мне эту честь?
– Почему бы нет? – сказала она. – Бруно нас будет эскортировать. Потом вы нас оставите вдвоем, нам с ним тоже есть о чем поговорить.
– Разумеется, – сказал он, хлопнув меня по спине. – Давай, давай! «No pasarаn».[46]
Временами он обгонял меня, тогда я жал на поворотах и снова оказывался впереди. Мы мчались наперегонки по опустевшим улицам и шоссе. Но вот я замедлил ход и первым подъехал к площади Далмации. Прощаясь, мы договорились, что встретимся завтра в Палате труда. Он дал задний ход, чтоб выехать на Виа-дель-Ромито. На прощание крикнул: – С Лори я поговорил. Спокойной ночи, ребята!
– Что он тебе сказал? – спросил я у нее.
– Мы ему понравились, он видел нас однажды в воскресенье, когда возвращался с митинга во Фьезоле. «Мы с матерью его не плохо Бруно воспитали», – так он сказал. Ты об этом помни. Порой с ним надо потверже, но не переусердствуй: он обидчив.
– Как он узнал, что я сегодня жду тебя у мастерской?
– Провел целое расследование. Побывал у моего отца – дескать, давно не виделись – и все разузнал: и что я вернулась, и где теперь работаю. Не меньше двух часов пришлось ему колесить по виа Монтебелло.
– Какой он хороший, – сказали мы в один голос и поцеловались. Казалось, даже мотоцикл вздрагивал от порывов ветра. Она обняла меня.
– Потерять работу на «Гали» – твое первое настоящее горе? – спросила она.
Я вернулся домой. Под дверью Иванны виднелась все та же полоска света, на кухне ожидал все тот же ужин. За едой меня продолжали мучить мысли о заводе. Мне кажется, мечтать о «Гали» я начал чуть ли не со дня своего рождения. Я представлял себе, как вначале меня поставят к старому «цинциннати», тому самому, за которым, передавая друг другу инструмент и детали, работали Милло и Морено. Я подрастал в ожидании дня, когда это сбудется, осуществится моя мечта. Я провел на заводе лишь одно утро, но он был мне дороже родного дома. Для меня «Гали» что корабль для матроса, лаборатория для ученого, ленточка финиша для чемпиона. И вот мне не дали дойти до финиша, оставили в кустарной мастерской Паррини, я теперь как матрос, списанный на берег. Ярость во мне была сильней отчаяния. Даже вновь обретенная дружба с Милло не могла уменьшить боль, которую причинила мне несправедливость. Тут бессильно даже счастье, которое мне принесла Лори. Наоборот, мне казалось, что наша любовь станет полной и совершенной лишь тогда, когда я войду наконец в заводские ворота, что на шоссе Морганьи, и пробью свою карточку. К нашему счастью постоянно примешивалась тревога ожидания. Я только сейчас это понял и был удручен своим открытием. Не съев и половины ужина, я почувствовал, что сыт. Тоска напала на меня, страшная тоска, от которой не спасали ни мысли, ни привычно окружавшие меня предметы. Наоборот, они раздражали меня, все казалось негодным, пропыленным, ненужным – шар электрической лампы, эмаль холодильника, стекло стакана. Я был на пределе сил, как после бешеного рок-н-ролла, когда от слабости глаза словно застилает туманом. Мне сейчас было трудно одному. Но уже два часа ночи, Бенито и Дино, конечно, спят, Армандо подсчитал выручку и тоже отправился на боковую. Есть еще Джо, но к нему я зайду утром. Почему у нас дома нет телефона? Сейчас отсутствие его казалось невыносимым. Я бы мог позвонить Лори, хотя бы услышать ее голос, притворившись, что ошибся номером.
– Нам поставили наконец телефон, – сообщила она недавно, – но кто им может пользоваться, когда мачеха держит уши востро?
Я очистил себе яблоко, за окном слышны были гудки поездов и глухой шум тростника, доносимые ветром. Я подумал об Иванне, которая была рядом, в соседней комнате. Ведь дело касалось моей работы на заводе, об этом с мамой можно говорить спокойно. Я позвал ее, как, бывало, в детстве, когда оставался один, ожидая синьору Каппуджи. Прислонившись лбом к косяку двери, я спросил:
– Ты не спишь?
Полоска света под дверью исчезла. Меня не обидел ее отказ, наоборот, он пробудил во мне гордость, вернул чувство равновесия и силы.
– Я только хотел поздороваться с тобой, – сказал я громко. – Спокойной ночи!
Через полчаса я уснул.
На другой день я стал разыскивать друзей, которых совсем забросил, – может, и они искали меня. У меня было чувство, будто я нахожусь перед точными, выверенными весами: если стать на них, то стрелка, как бешеная, сначала подскочит и, поколебавшись, остановится, наконец показывая твой точный вес.
Так бывает, когда обстоятельства заставят тебя подвести итог: тебе восемнадцать лет и пять месяцев. Сегодня вторник, февраль 1960 года. Ты можешь как угодно ненавидеть воспоминания, но раз уж вступил на этот путь, то на какое-то время они тебя одолеют.
Утром зазвонил будильник, поставленный мною на час вперед. Иванна вышла из ванной в халате, с сеткой на голове.
– Уже встаешь? – спросила она.
Вероятно, я впервые увидел ее в «естественном состоянии» – без кремов, пудры, краски для ресниц, без губной помады. Она показалась мне другой, необычной; губы почти бескровные, кожа молочной белизны, морщины на лице, на лбу, на шее. Взгляд напряженней, чем всегда, может быть, из-за больших, темных, как запекшаяся рана, синяков под глазами. Она казалась старше и вместе с тем моложе, чем всегда: очевидно, детская тонкость черт придавала ее утомленному лицу изящество юности.
– Ты никогда не вставал так рано, – обратилась она ко мне, зажигая газ. – Здоров ли ты?
Резкий звук ее голоса подавил во мне порыв нежности.
– Сегодня мы начинаем на час раньше, – солгал я и тотчас же дополнил свой вымысел: – Нужно снять с одной машины детали, привести их в порядок до начала работы.
Через несколько минут, подавая мне тарелку с поджаренным хлебом, Иванна словно про себя сказала: