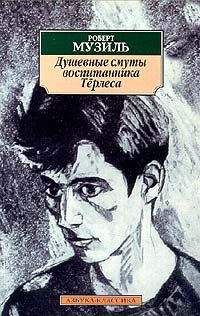Прошел таковой не без сопротивления и повторных проявлений мятежного образа мыслей. Пьяному льстил вызванный им переполох, и утаиваемая дотоле полная неприязнь твари к сотвари живой сбросила оковы. Началась страстная борьба за самоутверждение. Высокое чувство собственного «я» спорило с жутковатым чувством неплотного прилегания собственной шкуры. Мир тоже не был прочен; он был чем-то эфемерным, то и дело менявшим форму и облик. Дома стояли выломанные наискось из пространства; смешным, но родным дурачьем кишели среди них люди. Я призван навести у них порядок, чувствовал пьяный. Вся сцена была заполнена чем-то мерцающим, какой-то отрезок происходившего ясно приближался к нему, но потом стены опять закружились. Оси глаз торчали из головы, как рукоятки, а подошвы удерживали землю на месте. Начался поразительный излив изо рта; изнутри поднимались слова, непонятно как вошедшие туда прежде, возможно, это были ругательства. Так уж точно различить это нельзя было. Наружное а внутреннее свалились друг в друга. Злость была не внутренней злостью, а только взволнованным до неистовства плотским вместилищем злости, и лицо полицейского очень медленно приблизилось к сжатому кулаку, а потом стало; кровоточить.
Но и полицейский тем временем утроился; вместе с подоспевшими сотрудниками службы безопасности сбежались люди, пьяный бросился на землю и стал отбиваться. Тут Ульрих совершил неосторожность. Услышав в толпе слова «оскорбление величества», он заметил, что в таком: состоянии этот человек не способен нанести кому-либо оскорбление и что его нужно отправить выспаться. Он сказал это невзначай, но напал не на тех. Пьяный закричал, что и Ульрих и его величество пусть катятся к…! — и полицейский, явно приписывая вину за этот рецидив вмешательству постороннего, грубо велел Ульриху уматываться. Тот, однако, не привык смотреть на государство иначе, чем на гостиницу, где обеспечено вежливое обслуживание, и возразил против тона, которым с ним говорили, а это неожиданно навело полицию на мысль, что одного пьяного для трех полицейских маловато, отчего они заодно прихватили и Ульриха.
Пальцы человека в военной форме сжали его руку. Его рука была куда сильнее, чем этот оскорбительный зажим, но он не смел разорвать его, если не хотел вступить в безнадежную драку с вооруженной государственной мощью, так что ему ничего не осталось, как вежливо попросить разрешения следовать добровольно. Караулка находилась в здании полицейского комиссариата, и как только Ульрих вошел туда, от пола и стен на него пахнуло казармой, здесь шла такая же мрачная борьба между упорно вносимой грязью и грубыми дезинфицирующими средствами. Затем он заметил здесь непременный символ гражданской власти, два письменных стола с балюстрадой, в которой не хватало нескольких балясинок, немудреные ящики с разорванным и прожженным суконным покрытием покоившиеся на очень низких шарообразных ножках и покрытые во времена императора Фердинанда желто-коpчневым лаком, уже почти совсем облупившимся. Третьим, что наполняло эту комнату, было железное чувство, что здесь надо ждать, не задавая вопросов. Доложив причину ареста, его полицейский стал рядом с ним как столб, Ульрих попытался сразу же что-то объяснить, унтер, командовавший этой крепостью, поднял один глаз, оторвав его от бланка, который он, когда конвой и арестованные вошли, уже заполнял, осмотрел Ульриха, а затем глаз опять опустился, и чин молча продолжал заполнение бланка. У Ульриха возникло ощущение бесконечности. Затем унтер отстранил от себя бланк, взял с полки какую-то книгу, что-то занес в нее, посыпал сверху песком, положил книгу ни место, взял другую, занес, посыпал, извлек какую-то папку из кипы таких же и продолжил свою деятельность уже над ней. У Ульриха создалось впечатление, что разматывается вторая бесконечность, во время которой звезды ходят по своим кругам, а его самого нет на свете.
Открытая дверь вела из канцелярии в коридор, вдоль которого шли камеры. Туда сразу же отвели ульриховского подопечного, и, судя по тому, что больше его не было слышно, его хмель даровал ему благодать сна; но другие жутковатые действия давали о себе знать. Коридор с камерами имел, по всей вероятности, еще одни вход; Ульрих слышал тяжелые шаги входивших и выходивших, хлопанье дверей, приглушенные голоса, и вдруг, когда снова кого-то привели, один такой голос поднялся до высокой ноты, и Ульрих услышал, как он в отчаянье взмолился: «Если в вас есть хоть искорка человеческого чувства, не арестовывайте меня!» Голос упал куда-то, и странно неуместно, почти смехотворно прозвучал этот призыв к чувствам функционера, ведь функции исполняются только по-деловому. Унтер на миг поднял голову, не вполне оторвавшись от своих документов. Ульрих услышал грузное шарканье множества ног, чьи тела явно молча теснили какое-то сопротивляющееся тело. Затем шатнулся только звук двух ног, как после толчка. Затем с силой защелкнулась дверь, звякнула задвижка, сидевший за столом человек в форме снова уже склонил голову, и к воздухе повисло молчание точки, поставленной после фразы там, где нужно.
Но Ульрих, видимо, ошибся, ретив, что сам он еще не сотворен для полицейского космоса, ибо, подняв голову в следующий раз, унтер взглянул на него, написанные только что строчки остались непосыпанными и влажно блестели, и вдруг оказалось, что дело Ульриха давно уже вступило в здешнее официальное бытие. Имя и фамилия? Возраст? Занятие? Местожительство?.. Ульриха допрашивали.
Ему казалось, что он угодил в машину, которая стала расчленять его на безличные, общие составные части еще до того, как вообще зашла речь о его виновности или невиновности. Его имя и фамилия, эти два слова, по содержанию самые бедные, но эмоционально самые богатые слова языка, не говорили здесь ничего. Его работ, снискавших ему уважение в научном мире, который вообще-то считается солидным, в этом, здешнем мире не было вовсе; его ни разу о них не спросили. Его лицо имело значение только как совокупность примет; ему показалось, что никогда раньше он не думал о том, что глаза его были серыми глазами, одной из четырех официально признанных разновидностей глаз, имеющейся в миллионах экземпляров; волосы его были светло-русыми, рост высоким, лицо овальным, а особых примет у него не было, хотя сам он держался другого мнения на этот счет. По собственному его чувству, он был крупного сложения, у него были широкие плечи, его грудная клетка выпирала, как надутый парус на мачте, а суставы его тела замыкали его мышцы, как узкие стальные звенья, когда он сердился, спорил или когда к нему льнула Бонадея; напротив, он был тонок, хрупок, темен и мягок, как висящая в воде медуза, когда читал книгу, которая его захватывала, или когда на него веяло дыханьем бесприютной великой любви, присутствия которой в мире ему никогда не удавалось понять. Вот почему даже в эту минуту он смог оценить статистическое развенчание своей персоны, и примененный к нему полицией способ измерения и описания воодушевил его, как любовное стихотворение, сочиненное сатаной. Замечательнее всего тут было то, что полиция может не только расчленить человека так, что от него ничего не останется, но что из этих ничтожных составных частей она безошибочно собирает его и по ним узнает. Чтобы совершить это, ей нужно только, чтобы, произошло нечто невесомое, именуемое ею подозрением.
Ульрих вдруг понял, что лишь хладнокровной находчивостью сможет он выпутаться из этого положения, в которое попал из-за своей глупости. Его продолжали допрашивать. Он представил себе, какое это возымеет действие, если на вопрос о его местожительстве он ответит, что его адрес есть адрес незнакомого ему лица. Или если но вопрос, почему он сделал то, что сделал, заявит, что всегда делает не то, что для него действительно важно. Но во внешней реальности он невозмутимо назвал улицу и номер дома и попытался придумать оправдание своего поведения. Внутренний престиж духа был при этом удручающе бессилен против внешнего престижа унтера. Наконец Ульрих все-таки углядел спасительную лазейку. Отвечая на вопрос о роде занятий — «свободная профессия», — назваться «не состоящим на службе» у него не повернулся язык, он еще чувствовал на себе взгляд, меривший его в точности так, как если бы он сказал: «бездомный»; но когда в ходе допроса зашла речь о его отце и выяснилось, что тот член Верхней палаты, взгляд этот стал другим. Он был все еще недоверчив, но отчего-то у Ульриха появилось такое чувство, с каким человек, которого швыряли взад и вперед морские волны, касается дна большим пальцем ноги. С быстро вернувшимся к нему самообладанием он это использовал. Он мгновенно смягчил все, что уже признал, противопоставил престижу верных присяге и находившихся на посту ушей настойчивое желание, чтобы его допросил сам комиссар, и, когда это вызвало только усмешку, соврал — со счастливой естественностью, походя и в готовности сразу же замять это утверждение, если из него ему скрутят петлю требующего точности вопросительного знака, — что он друг графа Лейнсдорфа и секретарь великой патриотической акция, о которой, наверно, все читали в газетах. Он сразу заметил, что вызвал этим ту более серьезную задумчивость по поводу своей персоны, в какой ему до сих пор отказывали, и закрепил свое преимущество. Следствием было то, что унтер стал глядеть на него со злостью, потому что ни отвечать за дальнейшее задержание этой добычи, ни отпускать ее на волю он не хотел: и поскольку никого из более высоких чиновников на месте в этот час не было, он нашел выход, как нельзя лучше свидетельствовавший о том, что по части решения неприятных вопросов этот простой унтер кое-чему научился у своего начальства. Он сделал важную мину и самым серьезным образом предположил, что Ульрих виновен но только в оскорблении стражей закона и вмешательстве в действия должностных лиц, но как раз ввиду положения, которое он, по его словам, занимает, вероятно, еще и в каких-то невыясненных, может быть, политических махинациях, отчего и должен быть передан политическому отделу управления полиции.