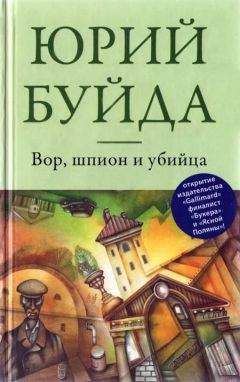Ознакомительная версия.
Обо всем этом мне рассказывали польские журналисты и люди из Грюнвальдского фонда. Для меня это, разумеется, было открытием. А вот то, что никто за этими могилами не ухаживает и никто из России на них не бывает, — это открытием не было. Первая мировая стала для многих в России «чужой войной».
Я попросил о встрече с отцом Александром, священником православного прихода в Ольштыне. Мы пили чай в его квартирке, отец Александр рассказывал о своем деде — офицере Генерального штаба, оставшемся после октября 1917-го в Польше, об отце-враче, о белорусских и польских крестьянах, которые сохраняли верность православию в годы послевоенных гонений, во времена Берута, когда интеллигенция отшатнулась от церкви.
— Интеллигенция всегда предает, — сказал вдруг отец Александр тихим голосом. — Верность сохраняют нерассуждающие крестьяне. Для них истина — одна, а интеллигенты — их разъедает рефлексия…
Я спросил о захоронениях русских солдат и офицеров в Польше. Отец Александр тяжело вздохнул: «России они не нужны, а наши возможности чрезвычайно ограниченны…»
Ранним утром 1 сентября 1989 года я въезжал в Ольштын под траурный перезвон колоколов: Польша отмечала пятидесятилетие начала Второй мировой войны, в которой погиб каждый шестой поляк (и почти каждый второй погибший поляк был евреем). По такому случаю в костелы были впервые приглашены священники других христианских конфессий, а также раввины и имамы, которые выступили с проповедями о мире. Среди приглашенных были и православные батюшки: после московской встречи Горбачева с кардиналом Казароли отношение польских католиков к польским православным стало меняться к лучшему.
За неделю до этого генерал Ярузельский назначил премьер-министром Польши Тадеуша Мазовецкого, одного из лидеров «Солидарности». На первых полосах оппозиционных коммунистических газет рядом с портретом нового премьера было написано примерно следующее: «Конрад Мазовецкий привел в Польшу крестоносцев. Какой беды ждать от Тадеуша?»
Имя Конрада Мазовецкого в сознании поляков, кажется, стоит в одном ряду с именем Иуды Искариота. Именно этот князь в XIII веке позвал рыцарей Тевтонского ордена в Польшу, чтобы немцы помогли полякам в борьбе с дикими пруссами, народом, «не ведавшим пива». Папа римский благословил тевтонов на крестовый поход в земли Святой Девы. И вскоре огромное пространство между Вислой и Неманом стало владениями Ордена.
В 1241 году в Новгороде Великом был крещен прусский (жмудский) князь Гланда Камбилла Дивонович, бежавший от тевтонских рыцарей и поступивший на службу к сыну Александра Невского — Дмитрию. При крещении Гланда Камбилла получил имя Иоанн. Русские прозвали его Иваном Кобылой. По преданию, именно он и положил начало роду Романовых.
В 1255 году великий магистр Поппо фон Остерна и король Чехии Пжемысл Отокар II основали Кенигсберг. В 1525 году Альбрехт, великий гроссмейстер Тевтонского ордена, перешедший в протестантизм, стал первым герцогом светского государства Восточная Пруссия со столицей в Кенигсберге. В 1945 году по решению Потсдамской конференции Восточная Пруссия была ликвидирована, две трети ее территории отошли Польше, треть — Советскому Союзу, Мемельский край был передан Литве.
«Перекресток крови» — эти слова крутились в моей голове, когда я бродил по полям Танненберга-Грюнвальда, на которых в 1410 году объединенные силы поляков, литовцев, русских и татар разгромили Тевтонский орден, а в 1914 году на тех же полях войска Гинденбурга и Людендорфа разгромили армию генерала Самсонова. Немецкая пресса назвала сражение под Танненбергом «битвой возмездия» — возмездия за 1410 год.
«Перекресток крови» — эти слова возникали в моем сознании, когда я возвращался из деревни Войново, где в 1832 году нашли пристанище русские старообрядцы, спасавшиеся от притеснений русского правительства. Здесь же, на землях Восточной Пруссии, задолго до Французской революции провозгласившей свободу совести священной, селились потомки французских гугенотов и чешских гуситов.
На выставке «Буханка вильнюсского хлеба», устроенной в Ольштыне, я встретил много заплаканных польских женщин, которые после войны были вынуждены перебраться сюда из Вильнюса, «нашего города», где на старинном кладбище в могиле матери захоронено сердце великого Коменданта, Дедушки всех поляков — маршала Пилсудского.
Перекресток крови…
Европа вся — перекресток крови: Фландрия, Балканы, Кавказ, Восточная Пруссия…
В районе, где я работал главным редактором газеты, жило немало литовцев, которым было запрещено проживание на территории Литовской ССР. Это были «зеленые братья», воевавшие с советской властью, а также «классово чуждые элементы».
Однажды мы с Володей Гельманом, редакционным фотографом, ездили по совхозам и остановились попить воды у одинокого дома, стоявшего вдали от поселка, на берегу реки. Хозяек дома — сестер Анну и Кристину, опрятных и малоразговорчивых старушек-литовок, в окрестных деревнях называли вдовами и насмешливо — помещицами. Они подняли воды из колодца и напоили нас, а потом проводили нас к маленькому кладбищу, за которым, как выяснилось, старушки ухаживали много лет. Здесь стояли два каменных креста, на одном было написано «Unbekannte russische Kriger 1914–1918», на другом — «Nicht umsonst 1914–1918». Русские и немецкие солдаты лежали в пяти шагах друг от друга. У крестов стояли цветы в глиняных горшочках.
— У жизни нет чужих, — сказала Анна.
— Вы хотели сказать — у смерти? — сказал я.
Анна покачала головой: нет.
Я спросил, почему они не перебираются в поселок — там водопровод, почта, магазины, соседи, наконец. Старушки в ответ только пожали плечами.
— Взгляните туда, — сказал Володя Гельман, когда мы сели в машину. — Видите дом?
На другом берегу реки, на взгорке, стоял небольшой дом с белыми колоннами.
— Дом культуры, что ли?
— Сейчас — дом культуры, — ответил Володя. — А тридцать лет назад этот дом принадлежал Анне и Кристине. Поэтому они и не переезжают в поселок. Каждое утро старухи видят за рекой свой дом, каждое утро молятся во дворе об обретении родового гнезда. Я как-то посмеялся над ними, а они мне сказали: «У вас, у русских, вся огромная Россия — ваш дом, а наш дом — только тут». Как вернулись из Казахстана, из лагеря, так тут и поселились, работали в совхозе, сейчас на пенсии, ухаживают за этим кладбищем, хотя никто их об этом не просил, ждут, верят…
— Ну да, — сказал я, — у жизни нет чужих.
Восточная Пруссия, Вармия и Мазуры, Калининградская область, Литва, Грюнвальд-Танненберг, Гросс-Егерсдорф, Прейсиш-Эйлау, Фридланд, Тильзит, Региомонтум, Кенигсберг, Крулевец, Караляучус, Краловец, Королевец, Калининград, католики, протестанты, православные, гугеноты, гуситы, старообрядцы, пруссы, поляки, немцы, литовцы, евреи, чехи, французы, русские…
Тысячелетний перекресток крови…
В моем сознании брезжили контуры der Ganze, той целостности, той полноты жизни, о которой тоскует всякий человек, страдающий дефицитом божественности…
Поток почты в «КП» нарастал. Потом стало принято язвительно шутить по поводу внезапного всеобщего прозрения. Но это — естественно. Понадобилось не так много времени, хватило семи десятилетий, чтобы люди привыкли к тому, что они — простые пользователи своих тел. Привычка к злу приятна: человек тянется к злу, потому что оно, как многим кажется, делает его сильнее. Теперь люди учились быть другими, учились говорить — говорить вслух, без оглядки, журналисты в том числе. А то, что все вдруг прозрели, говорит не только о природе человека, но и о природе той власти. По моим тогдашним ощущениям, для большинства это было не познанием своей страны, а как бы воспоминанием. У меня такое было, когда я впервые читал «Один день Ивана Денисовича». Родители не рассказывали о сталинских лагерях, где сидел отец, соседи тоже не любили об этом вспоминать, но когда я читал этот роман, казалось, будто я все это откуда-то знаю.
Все журналисты хотели быть публицистами — никто не хотел писать репортажей.
Евгений Петрович публицистику презирал: «Эти ваши рассудизмы…» Но и он не знал иногда, как относиться к простым новостям, которые летели на первую полосу: то какая-то женщина вдруг ни с того ни с сего встанет на колени перед памятником Ленину на центральной площади и начнет просить у него прощения; то телефоны в туалетах обнаружатся, когда в городе — дефицит и огромные очереди за телефонами (я, номенклатура, так и прожил четыре года без домашнего телефона)…
Менялось все и вся.
Помню, как я выступал с лекцией в областном управлении КГБ, и когда из зала стали доноситься негодующие реплики про «очернительство», начальник управления генерал Сорокин вдруг топнул ногой и закричал: «Да дайте же человеку правду сказать-то!» Впрочем, я не уверен в том, что генерал был так уж сильно заинтересован в правде. Может быть, дело в том, что он уже знал, что скоро умрет от рака…
Ознакомительная версия.