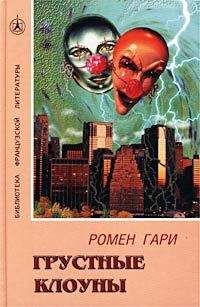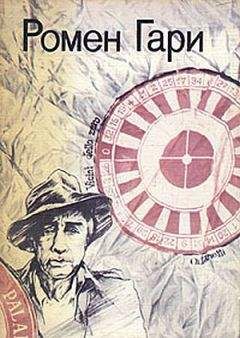Он нагнулся над Сопрано, обшарил его карманы и достал пачку купюр.
Он даже начал пересчитывать деньги, слюнявя пальцы и стараясь выглядеть как можно более циничным, пока наконец не почувствовал, что Сопрано совершенно успокоился.
Сопрано, казалось, действительно все понял. Барон выстрелил в него из-за денег. Его лицо прояснилось, он улыбнулся, бросил на барона полный восхищения взгляд, попытался что-то сказать ему, но закашлялся и откинулся на спину. Он подумал, что этот сукин сын ранил его, должно быть, не так серьезно, как ему показалось раньше, потому что он почти не чувствовал боли. Ему захотелось закурить, но, непонятно по какой причине, он отказался от этой мысли. Спустя какое-то время боль почти утихла, а потом и вовсе прошла, и его глаза стали совершенно спокойными.
И тогда барон сделал нечто очень странное.
Он повернулся спиной к телу и сделал ногами быстрые движения, которые делают кошки и собаки, когда хотят прикрыть песком или землей следы своих испражнений. После этого он поднял руку с пачкой денег и, размахнувшись, швырнул ее подальше от себя. Затем он спустился на тропу с другой стороны от поворота, оперся на свою тросточку и стал ждать.
Когда пара поравнялась с ним, барон обнажил голову и отдал честь любви. Он долго приветствовал ее, держа котелок у сердца, и всем своим видом — жилеткой, маленькими усиками и багровым лицом — напоминал провинциального тенора, тянущего сентиментальное о amor! При прохождении королевского кортежа он склонился так низко, что чуть было не упал, и Энн улыбнулась этому странному джентльмену, а барон, прежде чем снова надеть маску невозмутимости, еще некоторое время стоял, сняв шляпу перед Ее Величеством Любовью. Его щеки были надуты, он поднес ко рту руку и слегка покачивался, словно прилагал неимоверные усилия, чтобы не расхохотаться. Он уступил одно очко миру, но оно было единственным, которым последний мог похвастаться. Барон склонялся перед любовью, но ни перед чем больше; непроницаемый и высокомерный, он собирался продолжить свой путь под залпами кремовых тортов — этих падающих звезд человеческого горизонта. Он был уверен, что выпутается, несмотря на мысль, которую посвятил ему философ Мишель Фуко и в соответствии с которой «человек — явление новое, и все предвещает его близкий конец». Он чуть было не расхохотался, но сумел сдержать себя. Он выпрямился, поднял голову и, обратив лицо к свету, уверенным шагом начал спускаться по склону холма. Он уже давно взял себе в качестве девиза строки поэта Анри Мишо: «Тот, кого заставил оступиться какой-то камень, был в пути уже двести тысяч лет, когда услышал крики ненависти и презрения, которые, предполагалось, должны были испугать его».
Спустя примерно полчаса барон появился на Большом Карнизе. Это было впечатляющее зрелище.
Мальчишки, со свойственной детям жестокостью по отношению к пьяным, должно быть, сыграли с ним злую шутку, потому что он появился, сидя на осле спиной вперед и держа в руках ослиный хвост.
Он вновь обрел все свое достоинство.
Мы сели в автобус, идущий в Мантон. Чемодан он отправил на вокзал еще утром, воспользовавшись услугой Эмбера.
Старый белый автобус был тем самым, на котором мы приехали сюда, не знаю, помнишь ли ты об этом.
Проезжая по дороге на мыс, мы подняли головы и увидели Рокбрюн, замок, церковь и дом с закрытыми зелеными ставнями, но, к сожалению, автобус свернул, и все скрылось за поворотом.
Когда ты оставишь меня в следующий раз, когда ты уедешь еще раз — в Абиссинию или в Китай, Чили, Перу, Вьетнам, Конго, Аргентину, Чехословакию, Никарагуа, Боливию, Южную Африку или освобождать луну, когда мы расстанемся в предпоследний раз, то надо будет сделать это в парижском метро в час пик, в суматохе и толчее — у нас не будет времени заметить этого, мы выйдем на станции Шатле и скажем: ну все, пока.
Мы приехали в Мантон, и до отхода поезда оставалось еще полтора часа. Вот уже два дня для меня был самый благоприятный период, я захотела воспользоваться последним шансом и сказала ему об этом.
— Где?
— Мне все равно где.
Они пошли в отель напротив вокзала.
Нам дали сорок третий номер, на четвертом этаже. Мы поднялись пешком, потому что не было лифта. Держась за руки, мы сели на край кровати. Вошел коридорный в зеленом фартуке, с усталым выражением на лице, по нему было видно, что он уже привык к таким «постояльцам».
— Я забыл принести полотенца.
Одно полотенце он положил на умывальник, другое — на биде, но все это происходило где-то очень далеко, в другом мире, и потому не задевало.
Я разделась настолько, насколько это было необходимо, чтобы не терять времени.
Мы встали.
Я взял тебя под руку, но лестница была слишком узкой, и ты резко высвободила руку, как мне показалось — со злостью, но внизу я увидел, что ты плачешь, и мне стало легче.
Я рассчитался, и мы вышли на улицу.
Мы вошли в здание вокзала, и ты тут же побежал за чемоданом в камеру хранения, и ты быстро сжал мою руку, чтобы извиниться за то, что отпускаешь ее.
Потом я вернулся, чтобы попрощаться, но поезд уже подходил к перрону и останавливался всего лишь на минуту. Я почувствовал мокрую щеку на своей щеке, я видел за твоей спиной носильщика в синем комбинезоне, который с улыбкой смотрел на нас, пока ты рыдала на моем плече, и, мне кажется, я ответил ему улыбкой на улыбку. Наверное, это нечто вроде мужской застенчивости.
Я вскочил в вагон, когда поезд уже трогался, а она сделала несколько традиционных шагов по перрону, он высунулся из двери — рукав рубашки развевался на ветру — и стоял так до тех пор, пока не потерял ее из вида. Потом он вошел в пустое купе, сел у окна и посмотрел на пустое место напротив — место, зиявшее пустотой и хохотавшее над ним во все горло, и все пять мест, зиявших пустотой и хохотавших над ним во все горло; он слушал перестук колес, которые смеялись над ним; он смотрел на голубое небо, которое паясничало на телеграфных проводах; и он остался со своим пустым рукавом и стиснутыми чубами в Истории, в ее разверстой глотке, в хохоте и насмешке; он позволил увлечь себя, унести, поставить в строй, растворить в обшей массе, и вернулся на арену священной борьбы, на арену идеалистического цирка, чтобы исполнить свой постоянно обновляющийся номер борьбы за правое дело, новые кульбиты и падения под крики «браво!», оскорбления и насмешки, окунулся в атмосферу ненависти и издевательства, при этом его единственным надежным союзником было сомнение, а окружавший его хохот — данью всему тому, что способно устоять перед смехом.
Он погиб в Индокитае: подорвался на мине, отправившись в сопровождении друга на секретную встречу, цель которой так и не удалось выяснить. Похоже, он долго бродил по нейтральной полосе, и не ясно, стал ли он жертвой ошибки, западни или же его подвело зрение. Что касается тех, кто всегда относился к нему с некоторым недоверием, как к опасному мечтателю, то они даже подозревали его в намерении перейти на сторону неприятеля. И только благодаря страничкам из записной книжки, которую он оставил в чемодане, удалось установить некоторые из двигавших им мотивов. В частности, рядом с фразами полувековой давности, оказавшимися пустым звуком, — «Назад, пушки! Назад, пулеметы!», «Ни победителей, ни побежденных!», «Благородный мир! Почетный мир!» — была написана другая фраза, которой суждено было иметь успех намного позже и стать чрезвычайно популярной на других экранах: «За исторический компромисс». Последними словами, которые можно было прочесть в записной книжке, были: «С протянутой рукой…» Короче говоря, по выражению одного журналиста, «это как две капли воды напоминаю сентиментальную прогулку». Во время этой прогулки его путь совершенно естественным образом пролег через минное поле.
Здесь нельзя не отметить и весьма странный аспект этого несчастного случая.
Минное поле находилось в глубине леса, и люди, которые нашли Рэнье, отметили, что по странному стечению обстоятельств его вытянутая рука сжимала хвост обезьяны, убитой взрывом. Обезьяна выглядела невероятно удивленной. Ла Марн лежал рядом со своим другом, вцепившись в его пустой рукав. На его лице застыло выражение мрачного удовлетворения, свойственное человеку, который всегда говорил, что все закончится именно так. Среди личных вещей Рэнье нашли фотографию знаменитой кинозвезды и — на одной из страниц записной книжки — начало цитаты из Горького, если не точный текст, то, по меньшей мере, точный смысл которой он, сам того не зная, все-таки нашел: «… на арене буржуазного цирка, где гуманные идеалисты и люди большой души играют роль грустных клоунов… Нет. На арене цирка, где грустные клоуны исполняют свой номер братства и примирения… Нет. Нужно будет уточнить».
В ближайшее время его тело должно быть доставлено во Францию.