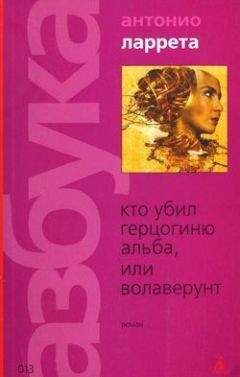55
Утверждения Годоя совпадают с тем, что говорится в критической литературе и биографиях Гойи. Весь 1825 год – за исключением нескольких недель весной, когда Гойя снова заболел (так же как в 1793 и 1816 годах), – художник целиком посвятил работе над миниатюрами с изображением быков, получивших название «бордоских».
Упомянутый вечер в Аламеде скорее всего можно отнести к 1785 году, к тому времени, когда Гойя пишет первые портреты герцогини – графини Бенавенто-Осуна. Каэтане де Альба было тогда 23 года. Десять лет спустя, незадолго до того, как Гойю назначили директором Академии Сан-Фернандо (ее почетным председателем была как раз мать герцогини), его навестили герцоги де Альба, и он получил заказ написать их обоих, что тогда же и выполнил. С этого времени Гойя начинает посещать герцогиню, которая в конце того же года стала вдовой, а в 1796 и 1797 годах отношения между художником и его моделью-подругой-покровительницей достигают кульминации. Именно к этому времени относится их совместное пребывание в Санлукаре-де-Баррамеда, чудесным свидетельством которого остается альбом рисунков, на одном из которых изображена герцогиня, играющая со своей чернокожей служанкой.
Портрет, о котором несколько путано говорит Гойя, – самое известное из всех созданных им изображений герцогини: она предстает на нем в черном платье и черной мантилье, указывая пальцем на землю. Портрет действительно (противно всякой логике) находился у художника, когда в 1812 году умерла его жена Хосефа Байэу и была произведена опись имущества, передаваемого по нотариальному акту его сыну Хавьеру. Это полотно фигурирует там как «Портрет де Альбы под номером 16, ‹оцененный в› 400 реалов».
Сады Хуана Эрнандеса, излюбленное место отдыха и развлечений жителей Мадрида, оставались открытыми для всех до тех пор, пока герцогиня не предъявила на них старинные права собственности, вернула их себе и построила на их территории дворец Буэнависта. Этот поступок сделал ее крайне непопулярной, и герцогиня, столь любимая прежде жителями Мадрида, теперь нередко обнаруживала, что ее подвергают хуле в бульварных листках, расклейке которых не смогли воспрепятствовать ни инквизиция, ни король. После смерти герцогини Годой, как нам известно, добился, чтобы местная власть – аюнтамьенто – выкупила для него дворец Буэнависта, а после падения самого Годоя дворец отошел под военный музей, был резиденцией регента (1840), а затем в нем размещались турецкое посольство, артиллерийское управление и, наконец, военное министерство.
Упоминаемые эскизы росписи стен и потолков не сохранились. Возможно, их уничтожил сам Гойя, поскольку он был недоволен ни разработкой тем, ни их исполнением; не исключено также, что на решение уничтожить эскизы, восславляющие герцогиню, повлияла ее смерть.
Историки чаще всего упоминают о желтой лихорадке 1803 года, явившейся катастрофой для Андалусии (сам Годой посвятил многие страницы своих воспоминаний описанию этой эпидемии и рассказу о мерах, предпринятых для борьбы с нею), однако вспышки эпидемии происходили каждое лето, и в 1802 году, как видно из текста, она была достаточно серьезной.
Гойя, несомненно, не питал склонности к мифологическим сюжетам, в чем он тут и признается. Кроме четырех или пяти первых произведений, относящихся к годам его ученичества в Италии, живопись Гойи в целом не содержит никакой мифологии, за исключением разве что его собственной, которую можно найти в «Капричос» и «Сумасбродствах», – и это в самый расцвет неоклассицизма.
Таким образом, здесь находит подтверждение одна из наиболее распространенных точек зрения относительно создания мах: Гойя написал их по заказу Годоя, собственностью которого они были в момент конфискации его имущества в 1808 году. Что касается галантного кабинета, то он действительно существовал (хотя в 1802 году, возможно, еще в виде проекта во дворце Буэнависта), и кроме мах в нем были такие шедевры, как «Венера с зеркалом» Веласкеса, «Школа любви» Корреджо и «Вакханка» Тициана, которые Князь мира приобрел у наследников герцогини.
Гойя здесь весьма просто объясняет то, что так волновало критиков, – загадку невыразительного лица махи.
Кроме сообщения о допросе, текст которого Гойя воспроизводит по памяти с замечательной точностью, все следы процесса и даже решение о его прекращении бесследно исчезли из следственных архивов инквизиции. Очевидно, параллельно этому следствию велось какое-то другое, которое было заинтересовано в сокрытии всех следов. Здесь мы сталкиваемся с еще одним случаем замалчивания всего, что так или иначе связано с жизнью и чудесами знаменитой Каэтаны.
Благодаря этому месту наконец появилась возможность точно датировать письмо Гойи к Сапатеру, которое комментаторы относят к весьма широкому периоду – между 1795 и 1800 годами; Гойя пишет своему другу в Сарагосу: «Жаль, что ты не мог быть у меня и видеть, как ко мне в мастерскую заявилась наша де Альба с тем, чтобы я раскрасил ей лицо, и как вышла от меня расписанной…» Письмо могло быть написано только двадцать третьего числа, утром, когда Гойя еще не знал, что «наша де Альба» умирает в своем дворце.
Письмо королевы сохранилось и было опубликовано. Донья Мария-Луиза говорит в нем буквально следующее: «Сегодня у нас была эта де Альба. Она и Корнель приезжали отужинать с нами, потом она уехала; она очень изменилась – стала похожа на сушеную рыбу, думаю, теперь она тебя не соблазнила бы, как раньше, надеюсь также, что ты раскаешься в том, что было…» Намек на старую любовную интригу между Годоем и «этой де Альба» достаточно прозрачен.
Интерес к американским растениям и их редким медицинским свойствам был настолько велик в Испании той эпохи, что каждый год публиковалось сразу несколько томов «Перуанской флоры» дона Иполито Руиса и дона Хосе Павона. Сам Годой в первом томе своих «Мемуаров» пишет: «В те годы мы получали все новые посылки для пополнения собраний перуанской и чилийской флоры, которые нам отправлял наш ботаник Хуан Пафалья; было получено более ста новых видов, способствовавших не только расцвету науки, но и развитию медицины, поскольку многие из присланных нам растений, корений и коры обладали необычными свойствами». И нет ничего удивительного в том, что одно из этих растений с «необычными» свойствами оказалось в руках герцогини.
Действительно, Гойя дважды писал Тирану – в 1794 и 1799 годах, но Риту Луна, насколько известно, он не писал до 1814 года, поэтому либо существовал какой-либо другой утерянный к этому времени портрет актрисы, либо Гойю обманывает память, либо память обманывает Годоя, когда он вспоминает рассказ Гойи. Тирана и Рита Луна были знаменитыми актрисами, и вполне логично, что именно они приходят Гойе на ум в тот драматический момент, когда он гримирует герцогиню.
Серебряные белила, называемые также свинцовыми или белилами Кремса (углекислый свинец), практически были единственной белой краской, которой пользовались художники вплоть до середины XIX века; они относятся к самым ядовитым художественным краскам. Вызываемая ими болезнь носит мрачное название «сатурнизм» [Отравление свинцом.]. От сатурнизма умер бразильский художник Портинари. Однако в данном случае опасения Гойи явно чрезмерны, ибо, хотя и не рекомендуется глубоко вдыхать запах серебряных белил, эффект отравления ими имеет кумулятивный характер: он проявляется лишь при накоплении определенного числа незначительных воздействий. Правда, не один Гойя преувеличивал опасность серебряных белил, их всегда считали опасными и применяли все меры предосторожности.
Фиолетовый кобальт представляет собой мышьяковистую соль кобальта и требует особой осторожности в обращении; желтая неаполитанская – антимониат свинца, а веронская зелень (как ее называют во Франции), или темно-зеленая (в Испании), или изумрудно-зеленая (в Англии), швейнфуртская зелень (в Германии) является соединением соли мышьяковистой кислоты с ацетатом меди. Это и есть самая опасная из всех красок; чтобы скрыть ее ядовитость, ей дают самые фантастические имена. (Зеленая Шеля, употреблявшаяся в более отдаленные времена, была простым арсениатом – не исключено, что Гойя использовал именно эту краску, называя ее именем другой, близкой к ней зеленой.) Не должно удивлять, если Гойя называл ее веронской зеленью. Не говоря уже о том, что он вполне мог привыкнуть к этому названию во время своего пребывания в Италии, существует и другое объяснение: дело в том, что на испанскую живопись второй половины XVIII века большое влияние оказал венецианец Тьеполо, известно также, что Гойя не избежал этого влияния; Тьеполо же, по-видимому, называл зеленую краску «веронской», восприняв это название от маэстро Паоло.