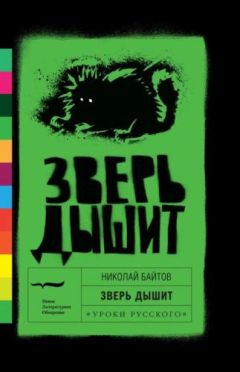На рассвете 1 ноября берег был виден милях в 15, но через полтора часа его закрыло падающим снегом, и нас усилившимся до штормового ветром снесло на запад. Между нервюрами верхней плоскости мы вырезали полотно, предполагая с наступлением темноты, смочив бензином куски, зажигать их, а в образовавшиеся коробки собрать немного воды из тающего снега. Воду, затопившую лодку до сиденья, едва успевали отливать футляром из-под бинокля. Полотно нижней плоскости скоро было разодрано волной на полосы, а нервюры, кроме главных, подламывались. Поплавки высоко поднимались над водой в то время, когда лодка взбиралась на гребень вала, резко бились о воду. Ночь с 1 на 2 ноября, день 2-го и ночь со 2-го на 3-е я провёл, управляя аппаратом, — разворачивая его носом против набегающих волн, чтобы не быть захлёстнутыми через низко осевшие борта лодки. 2 ноября днём, чтобы поднять погружающийся хвост, вылили почти весь бензин и накачали бак воздухом до 5 атмосфер; воду из лодки механик отливал опорожнённым масляным баком. Жажда и голод давали себя чувствовать: воды совершенно не было, — жевали ремень. На рассвете 3 ноября правый поплавок не выдержал и с отломившимися кусками ланжеронов отделился от плоскости. Верхняя правая плоскость, свисая, по временам касалась гребней волн. Положение стало крайне серьёзным: аппарат не разворачивался теперь против волн, захлёстывавших лодку; не имея опоры под правым крылом, он кренился направо, грозя перевернуться, а лодка погрузилась настолько, что вода перекатывалась через хвостовую часть её и через нижнюю левую плоскость. Чтобы облегчить аппарат, решились сбросить мотор. Ослабевшие от голода и жажды, мы провозились с мотором целый день. Но наконец он был сброшен, хвост лодки немного выдрался, хотя нос погрузился ещё более. К счастью, ветер стал ослабевать и заметно потеплело; 4-го утром показалось солнце. Мы развесили для просушки одежду и приступили к сооружению вёсел из стальной крестовины моторной рамы. Поднявшиеся с запада чайки указывали, что середину моря мы проплыли; была мысль грести на юг.
Утром, на 5-е сутки, показавшаяся на востоке точка прервала нашу работу, и мы принялись отчаянно махать веслом с привязанными к нему шлемами, пока не увидели, что милях в 8 судно уклонилось вправо, держа курс на нас. Однотрубное двухмачтовое судно без флага было принято нами за француза. Мы сбросили за борт всё: документы, флотское обмундирование, пистолеты «вери» и «наган». Подошедший к нам вёсельный катер принял нас на борт; судно оказалось английским торговым транспортом, шедшим к берегам Румынии.
По прибытии в Констанцу при участии капитана судна, командира порта и переводчика был составлен протокол. Через сутки (8 или 9 ноября) прибыли в Галац, где, нагрузившись, транспорт стоял до 8 декабря; там составили второй протокол; нас зорко охранял румынский караул. С разрешения капитана судна мы виделись с моряками русских пароходов «Кавказ» и «Эдуард», 10 декабря прибыли в Константинополь и были заключены в английскую тюрьму (на Галате). На 4-е наше прошение главнокомандующему английской и оккупационной армией, в котором мы указывали, что считаем себя интернированными и что Советская власть о нас осведомлена, просим высылки на родину — нас 15 марта на греческом торговом пароходе «Мариетта» отправили в Одессу, куда мы и прибыли 17 марта. До выяснения личности мы были арестованы, после чего командированы к месту службы.
Но кроме самолётов с поплавками, т. е. гидросамолётов, ещё имеются самолёты с лыжами. С ними тоже бывали случаи. Так, 5 февраля 1922 г. штабом авиации мне было приказано срочно приготовить самолёт «DH9A» с мотором «либерти» 400 л.с. к перелёту в Харьков. Со мной должен был лететь помощник Начглавоздухфлота по гидро-части тов. Погодин и механик тов. Баранцев.
7 февраля в 12 час. 15 мин. самолёт отделился от земли. Погода стояла благоприятная — ярко светило солнце, дул небольшой западный ветер. Мороз был 16 °С. Сделав круг над Ходынским аэродромом на высоте 1200 метров, я взял курс на юг. Мотор работал хорошо при подъёме на полных оборотах. В целях сохранения мотора и экономии горючего я решил идти на наименьшем числе оборотов. Но уже при попытке перевести на 1300 оборотов (максимум он давал 1600) мотор начал беспрерывно стрелять, причём получалось подёргиванье всего самолёта. Комбинируя повышение и понижение температуры воды и числа оборотов, я убедился, что мотор хорошо работает при оборотах не менее 1360 и температуре воды не ниже 70 °С. Накрутив стабилизатор на снижение под углом около 1–2°, мы быстро пошли по направлению к Туле. Меня очень интересовала скорость самолёта, а вместе с тем — хватит ли горючего до Харькова. Дело в том, что я летал на «Де-Хевланде» 400 л.с. всего 4–5 часов, и, имея сомнительные данные о моторе, самолёте и его полётных качествах, приходилось работать ощупью. «Саф» показывал 95 миль, т. е. около 170 вёрст. Я строго шёл по железной дороге, срезывая большие изгибы её. Следил за часами, зная, что Серпухов отстоит от Москвы на 90 вёрст, Тула — на 180, Орёл — на 360. Появился Серпухов через 25 минут, Тула через 50, и до Орла добрались через 1 час 50 минут. Скорость самолёта мне понравилась, и я рассчитал, что через 4 часа, самое большее через 4½, если ветер не переменит направления, будем в Харькове.
За Белгородом возвышенности все оказались голыми. Ясно была видна чёрная земля, т. е. к югу со снегом могло быть ещё хуже. Но выхода другого не было, как лететь дальше. Я прибавил число оборотов и со скоростью 110 миль через 4 часа после вылета из Москвы появился над Харьковом. Окрестные поля тоже были местами совершенно голые, местами был снег, но немного. Это меня смутило, я боялся при посадке расколоть лыжи, кстати сказать — довольно слабой конструкции. Я сделал ещё два круга в надежде найти поле со снегом и остановился на пашне в 1½ версты от бывшего свёкло-сахарного завода. Сели хорошо на старом жнивье, покрытом пальца на три снегом, и почти уже при потере скорости попали на пашню с кочками. Лыжи начали резко задерживать за кочки, самолёт призадумался над «капотом» и остановился. В результате оказались поломаны обе лыжи, одна довольно серьёзно.
На сахарном заводе стоял N авиапоезд, к помощи которого мы и обратились. К самолёту был выслан караул, а мы поместились у начальника поезда, весьма любезно нас принявшего. Лыжи через два дня были отремонтированы и усилены. Снегу для подъёма было мало, но всё же он лежал ровно, и со жнивья можно было подняться легко, но обстоятельства службы задержали т. Погодина до 20 февраля, а погода резко изменилась: поднялась буря, повредила нам тросы верхних элеронов, сдула весь снег в сугробы, и остались поля почти голые. Начался туман, температура упала до 0°. Решили попробовать подняться, но при попытке порулить по жнивью на 600–800 оборотах лыжи, задевая за кочки, поломались. Через 2 дня, исправив лыжи, снова попытались подняться с другой пашни, где казалось, что снегу больше. Предварительно мы с т. Баранцевым целый день лопатами разгребали сугробы и засыпали голые места, но при пробной рулёжке и по этому «аэродрому» лыжи постигла та же участь; самолёт с полной нагрузкой и опущенным хвостом тем не менее имел сильное желание «капотнуть». Положение получалось безвыходное. Мы пали духом, но решили попытать последнее средство: осмотреть всю ближайшую местность, не найдётся ли где более подходящего поля. Поиски наши увенчались успехом: в 1½ версты на опушке леса нашли узкую полосу около 200 шагов длиною, на которой было пальца на 2–3 снегу, местами лёд, местами голые кочки. Подъём только в одну сторону. Наутро 26-го при помощи красноармейцев N авиапоезда самолёт был перетащен на этот последний «аэродром»; я пробежал раз на малом газу по нему — лыжи почти не задевали. Разрыли часть сугробов, забросали голые места снегом, и решено было подниматься. Машина была с полными баками бензина, масла, с 2 пассажирами и около 6 пудов военной почты и груза. Подъём производился по ветру. Площадка была 200 шагов; я рассчитывал оторваться раньше, поднимаясь со стабилизатором, взятым на себя, и готовясь всё время подорвать самолёт. Через 160–180 шагов я оторвался. На 200 метрах попал в туман и потерял железную дорогу. Снизившись до 100 метров, сделал круг, нашёл железную дорогу и пошёл вдоль неё на Белгород.
Ветер был встречный, но не сильный, горизонт был виден на 1–1½ версты. Скорость была 95-100 миль. Через 35 минут показался Белгород, это меня огорчило. Я опасался, что впереди встречу ветер сильнее и при такой скорости мне не хватит горючего до Москвы. Облака всё время сгущались, и при попытке пойти выше я упёрся на 400 метрах снова в облака. Самолёт покачивало — временами основательно; для продольной устойчивости приходилось действовать ручкой, и ясно, что самолёт благодаря «болтовне» терял скорость. Из-за малой высоты и сравнительно большой скорости снег примелькался и слепил глаза. За г. Орлом выглянуло солнце. Дав мотору 1450 оборотов, я быстро взял высоту 1000 метров, но здесь наткнулся на сильную качку и через 20–30 вёрст снова облака. Опять перешёл на 300 метров. Жутко было нестись над лесом, но я сильно верил в мотор, все приборы показывали, что всё в порядке. Ориентировка была гнусная. Всё время шёл точно по линии железной дороги, почти не сокращая её изгибов. Показалась Москва — вся в тумане, издали похожая на большой лес. Я посмотрел на часы — 4 ч. 25 мин. полёта. На случай вынужденной посадки постарался забрать высоту, но на 500 метрах уткнулся в облака. Сделав два круга над Ходынкой, благополучно спустились.