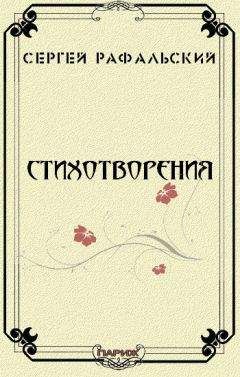Как бы уравновешивая слегка анархическую свободу мнений составляющих его единиц, Союз усиленно налегал на их формальную организацию: его члены, обязываясь беспрекословным подчинением, входили в получавшие специальное задание «пятерки» и «тройки», над которыми в порядке иерархического увенчания стояли «звенья уполномоченных», «Круг Старшин» и наконец таинственный и загадочный, в составе, известном только посвященным, «Сбор (или Собор) Старейших». Злые языки (а таких было немало) уверяли, что, начиная с «уполномоченных», во всех высших инстанциях Союза заседают преимущественно представители иностранных контрразведок, в постоянном и — как это ни странно — мирном кровосмесительстве с советской агентурой. Все это, разумеется, было злостным преувеличением.
Злопыхателей просто заедала зависть: прочая эмиграция настолько обывательски разложилась, что никакие «Вторые Бюро» ею больше не интересовались и даже стоящего провокатора не к чему было в ней приткнуть.
Конечно, Союз при случае осведомлял иностранцев, но делал это, так сказать, ех officio, без посредства специальных представителей. А что касается советчиков, то — помимо добровольных и бескорыстных, дилетантских осведомителей — им с лихвой хватило бы и одного ответственного «наблюдателя»: во-первых, потому что Союзники, несмотря на примерную дисциплину, как «дети боярские» в конспирации разбирались слабо, во-вторых, потому что они очень любили рассказывать о своей «работе» (и даже прихватывали кое-что из чужой). И, наконец, принимая во внимание действительную эффективность Союза, можно было прозакладывать голову, что даже в самые горячие сезоны один, средней трудоспособности, „наблюдающий» никак не переутомился бы.
И тем не менее, разработанный с рассчетом, по меньшей мере, на старорежимную террористическую дружину, организационный ритуал неизменно и во всех случаях применялся в Союзе со староверческим упрямством. И даже в открытый для «гостей» клуб Союза попасть было не так просто. На входной его двери размещалось в ряд несколько разноцветных электрических кнопок. Некая — то и дело меняющаяся — комбинация их служила «Сезамом» для «своих», но человек посторонний, естественно, нажимал первую попавшуюся и тем настораживал находящегося за дверью дежурного наблюдателя. При помощи особой системы зеркал тот со всех сторон осматривал посетителя и после краткого допроса через дверь и краткого совещания с уполномоченным — впускал гостя в помещение.
По причине острого расстройства личных дел Александр Петрович на клубных собраниях и докладах («Собственность и инициатива», «Инициатива и собственность», «Собственность и культура», «Собственность и творчество» и т. д.) давненько не был и нового «пароля» не знал. Поэтому, поиграв на кнопках как попало, он стал терпеливо дожидаться, когда его впустят. Дверь, однако, открылась очень скоро с довольно крепкой, но дружеской руганью, которой уполномоченный, оторванный от интересной диспозиции фигур на шахматной доске, покрыл неаккуратного и не желавшего своевременно осведомиться о новом «пароле» посетителя.
В помещении клуба со стенами, украшенными боевыми лозунгами и национальными флагами, осенявшими портреты погибших за «Труд и Собственность» Героев, приватных посетителей не было, так как ни собрания, ни доклада не предвиделось. Не было также, к великому сожалению Александра Петровича (всегда кто-нибудь угостит), и буфета, который, как известно, в эмиграции органически сросся с общественностью. В не слишком освещенном зале несколько союзников играли в шахматы, другие читали газеты, а третьи, сдвинув столы на середину (под большую лампу) и вооружившись ножницами, делали вырезки из советской прессы и вкладывали их в особую тетрадь, либо выбирали из разных пачек свою собственную «освободительную» литературу и раскладывали ее по конвертам, на которых тут же — из первой тетради — выписывались адреса.
И Александр Петрович понял, что присутствует на большом сеансе ответственной работы Союза, его беспощадной схватке с большевистским злом. Отыскивая в советской — преимущественно провинциальной — печати «письма в редакцию» с полными адресами отправителей, потерявших воловье терпение обывателей, либо желающих лишний раз выслужиться подхалимов — союзники направляли по этим адресам свою собственную «литературу», т. е. прокламации с призывом к революционной борьбе за «Труд и Собственность» с безбожной властью. По совершенно непостижимым законам марксистской инквизиции эта крамольная литература довольно часто все-таки попадала в страну, но без особого, как будто, эффекта: все получатели, боясь доносов, сдавали тотчас же посылки властям. А большинство, страхуясь на всякий случай, слало, вдобавок, в ближайшие редакции письма, полные благородного пролетарского негодования по поводу мерзких белогвардейских проделок.
Такой результат ни капельки, однако, не смущал союзных активистов. Скорей даже наоборот. Они подклеивали (уже в другую тетрадь) негодующие письма и, при удобном случае, подносили их иностранным благодетелям: дескать, полюбуйтесь, какая у нас «сеть» и куда доходит наша «литература».
Александр Петрович, некоторое время безразлично понаблюдав за неутомимыми строителями «будущей России», совсем было собрался подняться наверх, в помещение заведующего клубом, где надеялся найти кого-нибудь из старшин, но услышал разговор, от которого его энергетическая зарядка моментально аннулировалась.
Смазывая клеем очередную вырезку, одна тургеневская девушка убеждала другую, что той абсолютно необходимо быть на вторничном докладе нового эмигранта, бывшего коммуниста, а теперь видного члена приходского совета Кирилло-Мефодиевской церкви в Кламаре.
Александр Петрович насторожился, как голодный лис на тетеревиных следах:
— Простите, пожалуйста! А о чем будет сообщать этот докладчик? — спросил он совершенно медовым голосом.
— О работе советских охранных органов и возможностях борьбы с ними! — хором ответили активистские девицы.
У Александра Петровича не осталось больше никаких сомнений. На всякий случай — по возможности небрежно — он справился:
— А что — он член Союза?
— О да! — с гордой радостью отозвались современные Веры Засулич. — С первых дней пребывания за границей! А на днях вошел в Круг Старшин…
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — про себя подытожил Александр Петрович и, постояв для приличия за спиной знакомых шахматистов, перекинулся — в шуточном препирательстве — двумя-тремя фразами с дежурным уполномоченным и спешно покинул это орлиное гнездо непримиримого зарубежья.
«Вот тебе, бабушка…» — снова подумал он, окончательно приходя в себя на шумной еще улице.
Положение неприятно усложнялось. Теперь уже разоблачать приходилось члена Центрального Органа единственной в эмиграции активистской организации. Подымать такой скандал без участия общественности и прессы было невозможно. Общественность же давно числилась в нетях, а пресса усвоила стальную линию, согласно которой все в Советском Союзе было плохо, а в эмиграции — все хорошо. Выражавшие сомнение безоговорочно зачислялись в большевики. Даже скорбные письма сидельцев старческих домов с жалобами на глупость или шарлатанство их заведующих — местная газета неизменно клала под сукно: все благоденствуют в Датском Королевстве.
Конечно, не существовало в мире крепостных стен, которые — так или иначе — не преодолевались бы. Надо было только нащупать слабое место обороны, и таковым — поначалу — показался Александру Петровичу широко известный в эмиграции журналист Пантелей Елеферьевич Одуванцев, охотно принимаемый (и даже приглашаемый) во все уцелевшие издания. Но… Но некоторые частности этого бойкого дарования мало подходили к настоящему случаю. Фактически выросший и возмужавший в эмиграции Пантелей Елеферьевич духовно созревал хоть и с высоким сознанием нашей исторической миссии, но в совершенно волчьих порой условиях беженской борьбы за существование. Поэтому с парадного, так сказать, подъезда настойчиво утверждая — пером и живой речью — весьма высокие идеи и образы («Восстанет наша прекрасная, стонущая под игом марксистских насильников, Родина… Сгинет глухая ночь материалистического зла, опустившаяся над миром… Свет Христов засияет над бездной большевистского неверия…»), Пантелей Елеферьевич в то же время в повседневном быту признавал только одну одиннадцатую заповедь: «Не зевай!», с которой в гениально эклектическом порыве сочетал знаменитое «словцо» Ильича о хорошем хозяйстве, в котором всякая дрянь пригодится. И вот именно поэтому состоял действительным членом одновременно и в легитимистическом «Союзе верных» и в «Республиканско-Демократическом объединении». А на недоуменные вопросы некоторых могикан XIX столетия отвечал, положа руку на сердце: «Я ни с кем не хочу ссориться!»