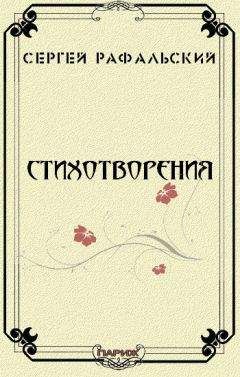Очень приветливо встретив Александра Петровича, он с места в карьер объявил своему гостю, что на этот раз никакой ошибки быть не может и все показания звездного неба, неоднократно проверенные и другими специалистами, сходятся в одном: советская власть падет не позже, чем в конце птилетки. Затем, усадив Александра Петровича на кухонном табурете, Вадим Александрович вернулся к своему «Маздазнану», который уже угрожающе шипел, булькал, чавкал и плевался в кастрюльке. Ученый повар уменьшил огонь и стал пропускать сквозь терку различные овощи — материал для необыкновенно сложного салата.
Из комнаты, уловив знакомые звуки, пришел очень черный, очень толстый и очень красивый кот Мурка, сел у ног своего хозяина и, умильно глядя вверх, потрогал бархатной лапкой за штанину.
— Неужели и он у вас на морковку перешел? — предельно изумился Александр Петрович.
— Ну до этого еще далеко! Ему припасены потроха. Но он, бестия, знает — раз я тру салат, значит, скоро ужин…
Александр Петрович искренне позавидовал Мурке: «Маздазнан» не вызывал у него слюнотечения. Пожалуй, умнее было по дороге хоть ветчины прикупить, хотя есть ее с «Маздазнаном» граничило бы с перекрестным оскорблением. Чтобы не терять времени, Александр Петрович стал рассказывать свой случай. Хозяин очень внимательно слушал, хоть терку из рук не выпускал. Когда Александр Петрович кончил печальную повесть о необыкновенной встрече, салат уже поливался маслом и лимонным соком. Тщательно перемешав как будто весьма аппетитную массу, Вадим Александрович пригласил гостя к столу и, поглядывая на собеседника, словно укротитель на тигра, в котором не вполне уверен, заговорил примирительно:
— Но ведь, дорогой мой, не поливают керосином горящий дом только потому, что надо же что-то делать, а воды под руками нет?
— При чем тут горящий дом?
— А при том, что, не принеся никакой общественной пользы своим — извините за скверный галлицизм — «прюдством», вы можете очень повредить возможному духовному выздоровлению одного, пусть даже мало почтенного человека, и закрыть дорогу для других ему подобных.
— А! Формальный коррелят, значит! — заявил, вспоминая сегодняшний доклад Александр Петрович. — Из Кудеяра — в честные Питиримы?
— А почему бы и нет? Возможно, что и марксистский кошмар только предрассветная тьма перед небывалой духовной Зарей. «Когда зло начинает торжествовать — я воплощаюсь», — говорил Кришну… Мы, русские, душевно еще очень молоды — «бородатые младенцы», — как ядовито определил нас один немецкий злопыхатель — и у нас эти переходы из одной полярности в другую происходят запросто… Так что из-за проблематической и, в общем, бесполезной чистоты риз не стоит колеблющегося толкать навсегда в сволочь. Тем более, что ваш рыжий, быть может, прообраз будущего всей нашей страны…
И тут Махоненко понес такую возвышенную ахинею, что Александр Петрович пошел, как ключ, ко дну полного непонимания. Однако, как это часто бывает, из гордости не сдаваясь, в нужных местах произносил слова, которые при желании можно было счесть за реплики увлеченного собеседника. И так продолжал ничего не значащий для него разговор, пока не истощился Маздазнан.
Выйдя от Махоненко сильно после десяти, Александр Петрович затомился, что сказочный богатырь на распутьи. «Маздазнан», оказавшийся, в конце концов, много вкуснее, чем это можно было предполагать — в непривычном организме оставил все же недоумение и едва прикрытую потребность в какой-нибудь более отравляющей еде, а рацеи Вадима Александровича лежали в сознании подобно его морковкам в желудке: убеждая, но не удовлетворяя. Наконец, с утра назревшая потребность, грехом закрыть скуку бытия, тоже заявляла о себе. Правда, деньги были, но это были немцевы деньги. Каждая тысяча, прежде чем уйти из кармана, могла, казалось, как строгая гувернантка, погрозить предупреждающим пальцем разболтавшейся совести Александра Петровича. И все-таки — будто стрелка компаса на север — он повернул к Монпарнассу, уверяя самого себя, что поедет искать Секирина и затем сядет на вокзале в метро.
Шел он быстро, так как пешеходов почти не было. Зато автомобили всех мастей и всех марок — преимущественно, правда, середняцких, — густо и тесно, словно казенные слоны в стойлах киплинговских рассказов, дремали с двух сторон зажатой их тушами улицы. Над всем этим сонным стадом мрел желтоватый полумрак от не слишком частых и сравнительно устарелых электрических ламп, в то время как с недалекого уже проспекта зарей потустороннего дня подымалось холодное белое сияние сверхсовременных фонарей. Александр Петрович вспомнил керосинные коптилки, освещавшие в его счастливом детстве косые тротуары родного городка и — который уже раз — с огорчением удивился безмерной контрастности своего века. В полусказочных дворцах августейших безумцев императорского Рима — факелы и плошки вставлялись в канделябры, над чеканкой, литьем и ковкой которых истощали вдохновение лучшие артисты своего времени. Однако в лачугах беотийских пастухов, в хижинах галлов, под пестрыми шатрами нумидийцев светили те же смоляные факелы — порой просто воткнутые в глинобитную стенку — и те же фитили, плавающие в растительном (или животном) масле, налитом в глиняный черепок или выдолбленный камень. Но в XX веке на дальнем Севере — у Полюса — в снеговых чумах эскимосов — и светя, и согревая — сжигают растопленный в каменном корытце тюлений жир все те же праотеческие коптилки, а на бульварах мировых столиц, пробегающий в стеклянных трубках с разреженным газом таинственный поток таинственных электронов порождает свечение всех цветов фантастической, как будто вставшей над иной планетой, радуги.
И мир душ человеческих тоже потерял свое субстанциональное единство. Где-то есть еще страны, в которых считается, что старости свойственна мудрость — как осени золото и багрянец, что больше всех достоинств человека заслуживает уважения святость, что храбрый и доблестный враг почтеннее иного друга, и что «каждый гость дарован Богом».
Но уже почти миллиард душ объединяют пророки, наплевавшие старости в бороду, объявившие святость «опиумом для народа», во всяком госте подозревающие шпиона и отрицающие у врага самую возможность какого-либо достоинства, только потому, что это враг… А между теми и другими самодовольно расположился Его Степенство Мещанин, которому одинаково начхать и на святость, и на антисвятость, ибо его единственно интересуют литр красного вина с увесистым бифштексом — для питания, телевизор и кино — для души, усовершенствованный (не деформируется!) тюфяк — для отдохновения и любви и стиральная машина для хорошего настроения его жены.
В старшем классе средней школы Александр Петрович получил наивысшую отметку за сочинение, в котором беспощадно раскрыл и раскритиковал все ничтожество пошлой жизни гоголевских старосветских помещиков. Но прошли многие и не очень «пошлые» годы, и вот Александр Петрович готов на коленях просить у милых старичков — Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича — прощения за то, что так когда-то обидел их память. В самом деле — почему они отрицательные типы? Кому они причинили зло? Кому помешали жить? Кого посадили в тюрьму и на кого донесли? Кого заставляли делать то, что его душе было абсолютно противно и притом хлопать в ладоши и петь осанну гениальному Погонялыцику? Можно ли сказать, что они были мещане, поставившие вещь выше человека, черствые эгоисты? Времена переменились, и взамен жалких «рожденных ползать» старосветских помещиков над миром взмыли увлеченные «битвой жизни» гордые буревестники — и вот Александру Петровичу рекомендуют оставить в покое заведомого предателя и негодяя, потому что вся страна стала негодяйской… Конечно, никакой сознательный гражданин освобожденного от всех капиталистических язв государства не задаст теперь того, столь смешившего гимназистов вопроса, с которым растерянный и убитый Афанасий Иванович обратился к умиравшей Пульхерии Ивановне: «Не хотели бы вы чего-нибудь скушать?»
Не задаст — потому что как быть, если больная согласится: в стране больше нет ни набитых припасами кладовых, ни переполненных товарами лавок, а пока пройдет очередь у кооператива — любая Пульхерия Ивановна, не дождавшись, умрет.
Почему-то вышло так, что всего больше несчастий натворили как раз поставившие своей целью всеобщее счастье. Возможно, что в Человечестве есть какой-то внутренний закон, согласно которому кто-то кого-то обязательно держит за глотку, чтобы кто-то третий мог замаливать всеобщие грехи и призывать к покаянию. Когда он в этом преуспеет — только что разминавшие освобожденные шеи вдруг хватают соседей за манишку уже во имя самого принципа несмятой манишки. И вся история повторяется сначала…
Чувствующие в пальцах сладострастный зуд обычно полагают, что так будет всегда, обладающие горлом, наоборот — склонны говорить, что и это когда-нибудь кончится.