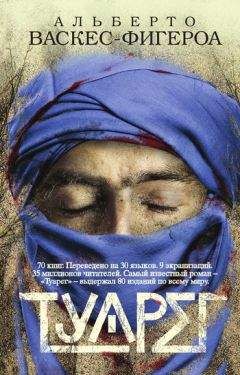Грифы недовольно захлопали крыльями.
Он начал все сначала и проехал еще пару метров. Он продолжал попытки до самого вечера, и когда решил прерваться, от грифов и мертвецов его отделяло не более ста метров.
Он поел и попил, сделал похлебку из галет, воды и меда, заставил Абдуля эль-Кебира ее проглотить и, как только наступила ночь, свернулся калачиком на одном из одеял, расстеленном на земле, и погрузился в глубокий сон.
На этот раз уже не грифы, а вопли гиен и шакалов, сцепившихся за мертвечину, разбудили его ближе к рассвету, и в течение долгого времени туарег слушал их грызню, хруст костей под давлением сильных челюстей и звук разрываемого на части мяса.
Гасель ненавидел гиен. Он терпеть не мог грифов и шакалов, но к гиенам испытывал просто непреодолимое отвращение с тех пор, как, будучи подростком, почти ребенком, обнаружил, что они загрызли новорожденного козленка вместе с его матерью. Это были отталкивающие и омерзительные твари: несуразные, трусливые, грязные и жестокие, – которые, собравшись в достаточном количестве, были способны напасть даже на безоружного человека. Он часто задавался вопросом, почему Аллах поселил их на земле, но так и не смог найти на него ответ.
Гасель подошел к Абдулю: тот крепко спал, его дыхание уже стало ровным. Он вновь напоил его и стал ждать наступления дня, размышляя о том, что он, Гасель Сайях, войдет в историю пустыни как первый человек, одолевший «пустую землю» Тикдабру.
Возможно, однажды станет известно и то, что именно он нашел Большой караван.
Большой караван! Чтобы выбраться, проводникам надо было всего лишь слегка повернуть на юг, однако это не было угодно Аллаху. Никому, кроме него, неведомо, за какие страшные грехи он уготовил этим людям столь ужасную участь. Кому жизнь, а кому смерть, решает Аллах. Остается только смиренно принять его волю и возблагодарить за то, что он явил ему свою благосклонность, позволив спастись и спасти гостя.
Инша Аллах!
Теперь, надо думать, он находился в другой стране, вне опасности, однако солдаты как были, так и остались его врагами, и что-то непохоже, чтобы преследование было закончено.
И не было никакой возможности ускользнуть. Последнего верблюда догладывали звери-падальщики, а что до Абдуля эль-Кебира, то должно было пройти немало времени, прежде чем он смог бы подняться на ноги. Только эта груда бездушного металла могла отвезти их дальше от опасности, и Гасель испытал глубокую ярость от собственного бессилия и невежества.
Простые солдаты, самый грязный бедуин и даже негр акли, отпущенный на свободу и несколько месяцев покрутившийся возле французов, запросто привели бы в движение машину гораздо больше этой – тяжелый грузовик с цементом, а он, Гасель Сайях, имохар, славящийся умом, смелостью и ловкостью, столкнувшись со сложностью непонятной хитроумной машины, был бессилен.
Предметы всегда были его врагами, он питал к ним неприязнь. Его кочевое существование сократило их до какой-нибудь пары дюжин самых необходимых, но даже в этом случае он инстинктивно их отвергал. Ему, свободному человеку и одинокому охотнику, было достаточно оружия, гербы с водой и сбруи для верблюда. В те дни, что он провел в Эль-Акабе в ожидании подходящего момента, чтобы захватить в плен губернатора бен-Куфра, Гасель неожиданно столкнулся с явлением, которое привело его в замешательство. Настоящие туареги, некогда столь же неприхотливые, как и он, похоже, пристрастились к вещам – тем предметам, о которых раньше они и знать не знали, а теперь они стали столь же необходимы, как вода или воздух.
И автомобиль, дающий возможность разъезжать повсюду без видимой надобности, превратился, как он мог заметить, в самую настоятельную из таких потребностей. Юным кочевникам, в отличие от их родителей, уже не приносило удовлетворения долгое – по нескольку дней и недель – путешествие по пустыне: без спешки и нетерпения, с сознанием того, что пункт назначения находится в конце пути и пребудет там веки вечные, как бы медленно ты ни передвигался.
И вот теперь, по странной иронии судьбы, он, Гасель, столь ненавидевший и презиравший предметы и испытывавший такое отвращение к любым механическим средствам передвижения, лежит здесь, возле одного из них, от которого зависит его жизнь и жизнь его гостя, и проклинает себя самого за невежество и неспособность пинками заставить его бежать по равнине к свободе, до которой рукой подать.
Рассвело. Он разогнал гиен и шакалов, однако грифы продолжали слетаться дюжинами, заполоняя небо кружением смерти, раздирая крепкими клювами тела двух человек и одного животного, которые всего лишь за сутки до этого были еще полны жизни, и криками возвещая миру о том, что здесь, на краю хамады, на самой границе «пустой земли» Тикдабры, человек вновь явился виновником трагедии.
– На этой самой койке, на которой ты сидишь, и примерно в это же время, когда все спали, твой муж перерезал горло моему капитану и тем самым еще больше усложнил себе жизнь.
Лейла инстинктивно порывалась было встать, однако сержант Малик эль-Хайдери с силой надавил ей на плечо, принуждая оставаться на месте.
– Я не давал тебе разрешения двигаться, – заметил он. – И тебе следует свыкнуться с мыслью о том, что в Адорасе до тех пор, пока не пришлют нового офицера, ты не можешь совершать никаких движений без моего разрешения.
Он пересек комнату, уселся в старое кресло-качалку, в котором покойный Калеб эль-Фаси просиживал часами, читая и раскачиваясь, и медленно оттолкнулся от пола, не сводя с девушки взгляда.
– Ты очень красивая, – сказал он, и в его голосе прозвучала хрипотца. – Самая красивая туарегская женщина, какую я когда-либо видел… Сколько же тебе лет?
– Не знаю. И я не из туарегов. Я акли.
– Акли? Дочь рабов! – воскликнул он. – Надо же! Этот туарег наверняка от тебя без ума, если взял в жены рабыню. Меня это не удивляет… Судя по всему, ты хороша в постели. Ты хороша в постели?
Ответа он не получил, да, можно сказать, и не ждал. Поискал сигарету в верхнем кармане рубашки, щелкнул зажигалкой, некогда принадлежавшей капитану, и не спеша закурил, наслаждаясь дымом и разглядывая девушку, которая в свою очередь смотрела на него с вызовом, гордо выпрямившись.
– Знаешь, сколько времени я уже не видел обнаженной женщины? – спросил он с горькой улыбкой. – Нет, ты не можешь этого знать, потому что даже я сам сейчас этого уже не помню. – Он кивком показал на старый календарь, висевший над кроватью. – Вот эта толстая шлюха, а ей, должно быть, уже лет сто, – это все, что у меня было, и я часами разглядывал ее, удовлетворяя себя и мечтая о том дне, когда повстречаю настоящую женщину. – Он вытащил грязный платок и вытер пот, который лился градом по его шее. – И вот ты здесь, как в моих мечтах, даже лучше и моложе, чем в моих мечтах… – Он помолчал, а затем спокойно, не повышая голоса, но твердо добавил: – Раздевайся.
Лейла не пошевелилась, словно не слышала, и только в глубине ее огромных черных глаз промелькнул страх, а пальцы слегка вцепились в грубую и грязную ткань тюфяка.
Малик эль-Хайдери выждал несколько секунд, докурил сигарету и осторожно положил окурок на пол под кресло, чтобы придавить его во время раскачивания. Потом поднял голову и взглянул на Лейлу в упор.
– Послушай! – сказал он. – Есть два способа решения подобных вопросов: по-хорошему или по-плохому. Лично я предпочитаю первый, поскольку он всегда увлекательнее для обоих. Ты идешь мне навстречу, и мы приятно проводим время. Я, со своей стороны, тоже иду тебе навстречу и делаю твое заключение более сносным. А если ты будешь упираться, я все равно добьюсь своего силой, и к тому же меня совсем не будет волновать, что с тобой будет потом… Или что может произойти с твоей семьей… – Он многозначительно улыбнулся. – Двое из сыновей твоего мужа просто красавчики… Смазливые подростки! Ты обратила внимание, как на них смотрят некоторые из моих парней? Они ведь тоже уже не один год томятся здесь, в заточении, и по меньшей мере восьмеро из них будут просто счастливы, если я закрою глаза и позволю им сегодня ночью, когда все уснут, заняться парнишками…
– Ты свинья.
– Не больше любого другого, кто провел столько времени, сколько я, в этой проклятой пустыне. – Он перестал раскачиваться и отклонился назад, глядя в окошко на высокие барханы, со всех сторон обступившие оазис. – Отсюда все выглядит по-другому… по мере того, как годы проходят, а ты теряешь надежду на то, что однажды тебе позволят вернуться… Когда понимаешь, что уже никто никогда не испытает к тебе интереса или сочувствия, перестаешь испытывать интерес или сочувствие к остальным. – Он вновь повернулся к ней. – Мне ничего не дадут. То, что я сам не возьму, никто мне не предложит, и уверяю тебя, что, как только ты попадешься другим на глаза, они тоже попытаются это сделать… Раздевайся! – повторил он. Теперь это был уже приказ.