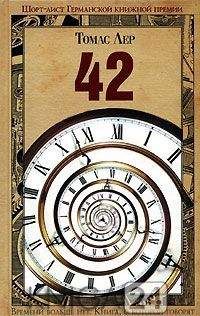В большом и уютном зале с расписным кессонным потолком мы наконец-то отыскали редакцию «Бюллетеня». О стены опирались двуручные мечи и алебарды, оловянные кружки, как грибы, теснились в массивном дубовом шкафу. Портативные печатные прессы, собранные из множества вручную снесенных сюда деталей, стояли со всеми необходимыми принадлежностями под оконной аркой с видом на лесистый холм позади одной из замковых крыш, горизонтально прорезанный серой гусеницей автострады, словно Шпербер хотел напомнить себе о том, что на дворе стояли (в буквальном смысле) иные времена, не относящиеся к периоду расцвета Са-войских герцогов, который с некоторыми грубейшими футуристическими ошибками царил в замке. На столах, лавках, деревянных сундуках и на паркете лежали экземпляры знакомого нам «Бюллетеня». Нас захлестнули порывы ностальгии, когда мы листали номера, титульную старину которых венчала все та же переломленная стрела. Оказывается, патиной может покрыться и наше, нулевое время, покоящееся на 70, 69, 68… но благодаря эльфятам на вновь растущем числе микрокосмов. Объявления о рождении эльфят. Первые отчеты о конференции. Столь бурно обсуждаемые поначалу этические нормы. Теоретический трактат ЦЕРНистов о хрономеханике. Советы по самолечению. Перечисление и объяснение терминов (Гостеприимец, Визитация, Метод Гавриила, Метод суккуба, Адаптация, Инсталляция и так далее). Отчеты первых экспедиций клана Тийе, дальнейшие отчеты, заставлявшие нас все шире раздвигать границы опустошения. Подробнейшее изложение теории АТОМов и доводы против. Сильнее всего нас тронули первые некрологи (мадам Дену, Матье Сильван) и наша опись, «Полный перечень человечества (поелику оно хронифицировано)». В 12-м, последнем отпечатанном выпуске тщательно описывались смерти телохранителя Торгау и последовавшего вскоре следом за ним его хозяина Тийе. Мы искали новые и неопубликованные материалы, но обнаружили немного, да и то лишь наброски с абсолютно нечитаемыми каракулями Шпербера. На очень краткий, отчетливый момент у меня возникло ощущение, будто мне надлежит чего-то не заметить или же резко позабыть; это было как вспышка опасения и мгновенная попытка ее погасить. Мне почудилось, что подле Бориса и Анны возникло (неслышное) шушуканье, слишком скорое, слишком рефлекторное движение, означавшее не что иное, как торопливое сокрытие одного или двух листков бумаги.
Итак, прыгаем! Из того самого деревянного эркера, выходящего на озеро, так что нам открывается великолепная панорама синего агата озерного щита до самой Лозанны. Падаем с семи– или восьмиметровой высоты, как с внушительной вышки для прыжков в воду, повторяя ежевечернее Шперберово купание. Наши тела вращаются и переворачиваются, непроизвольно или же в неопытной попытке распрямиться. Чувство, будто нас (слегка) распеленывают, словно мы выпадаем из контекста, словно я лечу рядом с Анной на тех же правах и с той же свободой, что и Борис, входящий в штопор на фоне серых крепостных стен. Прыгая, мы ориентировались направо, на Кларан, чтобы не врезаться в двенадцатую копию бежавшего хозяина замка. Невидимые руки дергают Анну за волосы, поднимают ее грудь. Ни у кого из нас нет опыта прыжка в безвременье с подобной высоты в воду. Возможно, лавандово-пенный Шпербер плавал вокруг замка, возможно, невзирая на опасные мины или, наоборот, зная заминированные места, он покидал свою обитель не через эркерное окно, а иным способом или же тринадцатая копия — сия хитроумная идея приходит вдруг в голову столь же легко и быстро, как мчащийся навстречу то ли голубой лед, то ли метровые толщи стекла — застряла где-нибудь на глубине трех метров под поверхностью воды в виде законсервированного гигантского эмбриона — немаловажное для нас обстоятельство, ибо возможно, что катапультированная в озеро хроно-сфера, погрузившись на определенный уровень, обретает равновесие, застывая на глубине, пропорциональной высоте падения и весу падающего. Ныряльщик под паковый лед. Я когда-то видел такое в кино.
Время двенадцатой копии Шпербера — 20:47, как мы выяснили, аккуратно к ней приблизившись. Примерно в то же время по нашим часам мы добрались до отеля «Монтрё-Палас» и расположились на отдых в спесивых номерах в стиле ар деко. Чтобы прийти в себя. Как всегда, лишь на краткий миг, потому что моментально охватывает дрожь надежды, что за прошедший миг там, снаружи, что-то изменилось к лучшему. Безумства множатся, словно мы оплодотворяем их разбросанные повсюду невидимые половые органы, ничего при этом не ощущая. Вынужденная жизнь в мире, трупное окоченение коего — в результате неких, совершенно неясных условий — будет отныне расти за счет множимых форм индивидуального человеческого прошлого, рождает чувство, что ты марионетка в чьих-то руках или даже плод чьего-то воображения. Двенадцать Шперберов представляются мне воплощением ядовитой шутки какого-то писаки, вдохновленного садовыми гномиками, на которых он глазеет из окна своей льготной квартирки для малоимущих. Борис, напротив, считает, что теперь надежды больше, чем когда-либо ранее. РЫВОК и копии замковладельца, по его мнению, свидетельствуют о возрастающих сбоях в «системе», о том, что кабины АТОМов трещат по швам и скоро туда ворвется подвижный, ясный зимний ветер действительной действительности и реальной реальности. Определить, где мы находимся, по меньшей мере столь же сложно, как представить себя лежащим на аквамариново-синем бархате застеленной кровати в моих покоях и одновременно стоящим снаружи перед отелем, окидывая белый, по-лебединому горделиво надутый фасад с налетевшей стайкой желтых маркиз (возможно, даже двенадцатикратным) взглядом. Пожалуй, лучше присесть на край постели.
Дверь в мои гостиничные покои, на самом верху под сводчатой, словно оперной, крышей, была открыта, и все внутри встречало меня как долгожданного преемника; мне даже не пришлось убирать с дороги ни единого болванчика. Нечто в этом почти столетнем, надменном, украшенном вычурным орнаментом и анахронично пышном здании наводит на мысль, что оно — грандиозный сказочный замок, но не спящий, а, наоборот, заколдованный от проклятия, где вещи не замирают, где под защитой абсолютно прозрачной ограды из шиповника слуги вечно бегают вверх и вниз, одевают и раздевают гостей, а повара беспрерывно дают пощечины поварятам. Едва мы вошли в отель, пройдя под жестяным швейцарским флагом, мимо мраморных колонн и прочь от морды «ягуара», тот озорной настрой, с которым мы отгоняли от себя воспоминания о нелепой Шперберовой дюжине и трупе на мосту, был сметен каким-то благоговейным предчувствием, чем-то совершенно неощутимым, что мы, однако, почувствовали или же нам почудилось, будто мы должны почувствовать, как бывает, если проходишь через заранее объявленное сильное магнитное поле контрольного пункта или шлюза. Поскольку Борис и Анна также испытали своеобразный перфорационный эффект, мне не пришлось сомневаться в моем душевном состоянии (насколько оно вообще подчинялось еще классификации). Внезапно Анна почувствовала себя как ребенок, призналась она, четырех– или пятилетний ребенок.
— Как собака, — произнес Борис, как только мы попали в холл с массивной золотой паутиной хрустального купола, имевший благодаря хрустальным люстрам, лепнине, кариатидам и аллегорическим картинам на стенах вид помпезный и сакральный одновременно. И сразу же весьма удачно себя поправил: — Пневматическая собака.
Ощущение собственного несовершеннолетия и прозрачности все росло, действительно переродившись в едва выносимое подозрение: а не являешься ли ты сам в некотором роде автоматом или не состоишь ли хотя бы отчасти из технических деталей, притом создавшее тебя инженерное искусство мнилось даже несколько устаревшим, гидромеханическим и до-электронным, таким же анахронизмом в духе жюль-верновских конструкций, как холл и залы отеля рубежа XIX—XX веков. Наши руки слишком туго двигались вдоль искусственных ребер. Шарниры каучуковых коленных чашек разболтались. В груди пыхтела старая помпа, поспешно и изможденно отдаваясь в висках. Было понятно, что вся эта машине-рия долго не протянет, окуляр мутнел, а может статься, что внизу из машинного отделения уже вовсю валил дым. Если бы неподалеку, в непосредственном пространственном или временном окружении мы обнаружили бы какое-нибудь ультрасовременное детище ЦЕРНа, нас охватил бы неизбежный ужас, что в нас уже запущен механизм перехода, первая фаза оболванчикования завершилась, и, стало быть, вскоре мы застынем по образцу благородных постояльцев вокруг. Однако мы ощущали одно лишь гнетущее возбуждение, словно легкая анестезия сковала многие сопряженные части наших тел или их подменили не вполне удовлетворительными протезами.
Мы приступили к поискам причины или виновника такого состояния, не до конца понимая, ищем ли мы объект поклонения или уничтожения. В качестве источника беспокойства нам вскоре бросилась в глаза некая шутка посреди ничем не примечательных и правоверно замороженных постояльцев. Между облицованной мрамором стойкой регистрации и расцветшим пышными цветами диваном располагался стабильный постамент с золотой каймой, какие бывают в цирке. На нем некие хронифицированные юмористы, сам Шпербер или Хэр-риет, столь искусно инсталлировали крупного болванчика, что в первое мгновение невозможно было не поверить, что массивный и высокий детина лет этак за шестьдесят, с сачком в руке, действительно ловил бабочек в холле гостиницы и случайно очутился на пьедестале. Крепкие голые стариковские ноги в комично коротких шортах были расставлены во вполне убедительном шаге-выпаде. Облаченный в накрахмаленную белую рубашку и легкую вязаную кофту, торс по-дельфиньи наклонялся вперед, и если ты, имитируя порхание, занимал позицию жертвы в области виртуального цилиндра, стенки которого вот-вот должна была очертить металлическая окружность ловящего сачка, то из-под козырька кепи в тебя впивались настолько ясные и пронзительные глаза, притаившиеся на мясистом лице бывшего профессионального боксера, что ты ощущал себя уже насаженным на иголку и умножившим ряды хрономотыль-ков, о которых когда-нибудь скажут, что им дано было порхать целых три секунды. Хотя охотничья позиция ребячливого старика, устройство которой вряд ли было под силу даже нескольким искусным зомби, еще издалека привлекла наши до поры равнодушные взгляды, вовсе не она — памятуя о мастере Хаями и его сложнейших и ортопедически тягостных композициях пленения и падения — так обескуражила нас. Натренированный видом тысяч и тысяч болванчиков глаз моментально почуял глубинную, второго порядка ложность возвышающейся над толпой фигуры. Правда ли и каким образом невероятно сильное и почти психотическое ощущение, что мы превращаемся в роботов, смутившее нас при входе в отель, коренилось в охотнике — это так и останется без ответа. Покачивая головой, но с тяжким вздохом, словно ему в роли бесстрашного миссионера приходится атаковать окутанного легендами идола аборигеновского племени, Борис вынул из кармана нож и вырезал у старого молодца на помосте клинообразный кусок из икры. Никому из нас не приходилось раньше видеть даже близко похожую по тщательности работы восковую фигуру. В нулевом году в отельном бизнесе этих краев распространилась, видимо, тяга к изящному. Анонимный ловец бабочек был столь же нелеп, как гриндельвальдовская бронзовая лошадь в резиновых сапогах, хотя он — по ряду весьма субъективных причин — произвел на нас более сильное впечатление.