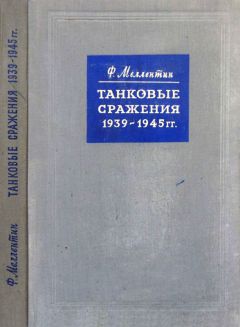— Ой, за что же мне такое горюшко-то!
— Так не только у нас, у других тоже горе, — отвечала дочь.
Клава утешала её, как могла. Готовила и давала ей отвары трав. Выпросила у Афони молока, сбегала на ферму, принесла в бидоне, вскипятила и по ложечке подносила матери.
Больше всего Клава возлагала надежду на милость Божью.
В горнице висела старинная икона в серебряном окладе, которую любила бабушка Варвара. Лик Спасителя был изображён на ней, будто живой, казалось, он смотрел на Клаву с тихой радостью, может, даже с лёгкой улыбкой на устах.
Когда сгущались сумерки, Клава зажигала свечу, вставала на колени перед иконой.
Молилась она за выздоровление Софии Алексеевны.
Молилась она за упокой души убиенного брата Ивана.
Молилась она за то, чтобы Господь сохранил в живых родных братьев Павла и Дмитрия.
Молилась она за то, чтобы быстрее окончилась война.
Молилась она, уже в последнюю очередь — просила у Господа даровать ей суженого, единственного, любимого навсегда.
В густой синеве сумерек, переходивших в чёрную тьму, возникала откуда-то таинственная теплота и обволакивала Клаву так, что она чувствовала её, и становилось жарко, как летом в солнечный день. И она ощущала необыкновенную лёгкость, воздушность, словно тела уже и не было, а она птицей парила в пространстве избы, над деревенской улицей, над задремавшим Чуровом, над всем целым миром.
Перелом в состоянии Софии Алексеевны произошёл в лучшую сторону.
В морозное утро ноября, когда деревня была по-зимнему украшена снегом, старшая Осокина неожиданно ощутила облегчение и сразу позвала к себе дочь.
— Клава, я ожила, — сказала она, — я не умру, а то думала, что уже мне конец. Слава Богу!
Впервые она поднялась и прошла по избе самостоятельно.
Дочь была несказанно рада.
Постепенно их трудная жизнь входила в привычное русло.
Как-то в сумерках в избу Осокиных постучали.
Клава пошла в сени, чтобы открыть дверь, и удивилась, увидев в воротах незнакомца в солдатской форме.
— Здравствуй, Роза, — улыбнулся он.
Клава покраснела, и тут же вспомнила далёкое-далёкое детство.
— Здравствуйте, Алексей Иванович! — изумилась она, хотя уже знала о его приезде. — Какими судьбами?
— Вот зашёл проведать и выразить моё сочувствие, — ответил он.
— Заходите в избу, будем рады, — пригласила Клава.
Окунев прошёл в горницу. София Алексеевна обрадовалась гостю, давно у них не было никаких гостей.
— Вот зашёл выразить моё сочувствие по Ивану, — скрывая неловкость, проговорил Алексей. — Я его любил, он мне был, как брат, жалко Ивана.
— Спасибо, Алёша, — София Алексеевна благодарно взглянула на него. — Мы уж все слезы выплакали, да уж что теперь — война проклятая. Спасибо, Алёша! А ты сам-то как? Сказывали, сильно поранили?
— Ничего, София Алексеевна, оклемался уже, хожу без костыля, ничего, всё в порядке, — ответил он.
Старшая Осокина стала готовить чай, хотя Алексей отнекивался, хотел уйти, но она его не отпустила, ушла хлопотать на кухню.
Он сел в горнице за стол, напротив села Клава.
Вечерние сумерки таинственно густели за окошком.
Большие карие глаза Алексея удивленно смотрели на девушку.
— А ты и вправду, Клава, стала настоящей Розой, — сказал он. — Красавица!
— Да будет вам, Алексей Иванович, — смутилась Клава. — Солдаты всегда говорят комплименты девушкам, это я уж знаю.
— Откуда ты знаешь? — Алексей впервые за последние недели рассмеялся.
— Так предполагаю, — поправилась Клава. — Так уж принято!
София Алексеевна принесла чай.
И они, как старые добрые друзья, говорили обо всём за чаем, вспоминали мирные дни, а иногда Алёша скупо отвечал на их вопросы о фронтовых буднях.
После Клава проводила гостя до дома, а он в свою очередь не отпустил её одну — довёл до избы.
В таинственности сумерек они встречались ещё несколько раз, но не успели сказать друг другу заветные и главные слова.
После Новогоднего праздника Алексея Окунева вызвали в райцентр в военкомат и отправили опять на фронт.
В сумерках Клава молилась, чтобы Бог уберёг Алексея от смерти.
— Клавка, заводи лошадь круче! — командовала Зина Морозова. — Легче будет сбрасывать.
— Куда её круче? — возразила Клава. — Смотри, еле стоит на ногах, если грохнется, нам её не поднять.
— Ну, ладно, ладно, — согласилась Морозова.
Подружки вывозили навоз от скотного двора на колхозное поле.
Стоял чудесный мартовский день, припекало солнышко.
К весне в Чурове ощущали голод не только лошади, коровы, овцы, но в первую очередь, конечно, люди. Таяли запасы зерна, картошки, квашеной капусты, мяса, у кого оно было, и всего другого, что можно было кушать.
Хотя чуровцы работали, что называется, день и ночь, трудодни отоваривали скупо — по 150 граммов зерна. Когда Клава принесла хлебный заработок домой, София Алексеевна не удержала слёз.
— Что ты, мама, успокойся, — сказала Клава. — Проживём, у нас вон хрюшка в хлеву, овцы, курицы есть, не умрём с голоду. А про зерно ты же знаешь, в колхозе лозунг: «Всё — для фронта, всё — для победы!». Кто же нам даст зерна больше? Хорошо, что и по сто пятьдесят граммов выделили, и за это спасибо Афоне.
— Да и то правда, — согласилась София Алексеевна.
Девушки разгрузили навоз с саней, присели передохнуть.
Солнышко пригревало почти, как летом.
Кое-где на бугорках зеленела травка, лес уже не был тёмным, начинал светлеть, зацветал ивняк, из низин тянуло запахом прошлогодних листьев.
— Слышишь, кто-то летит, — вдруг заволновалась Морозова. — Может, какой самолёт?
— Какие у нас в Чурове самолёты? — удивилась Клава. — Ты чего?
Но гул на самом деле был слышен, приближался. Клава, приставив ладонь ко лбу, увидела вдали, на горизонте очертания самолёта. Приближаясь, он стал снижаться над полем, где была повозка. Лошадь захрапела от страха, перебирала ногами, дергала поводья. Девушки, задрав головы вверх, хотели уже замахать руками и закричать от радости, но тут увидели на крыльях широкие чёрные кресты.
— Фашист! — закричала Зина. — Ложись!
Они упали на холодную землю.
Самолёт сделал круг над повозкой, но не сбросил бомбу, не открыл огонь из пулемёта, чего так боялись девушки. Они поднялись на ноги. И увидели, как машина, опускаясь всё ниже, стала задевать верхушки деревьев ближнего леса, из-под винта полетели в разные стороны срезанные ветки, вскоре фашист буквально скрылся в лесу.
— Наверное, в Чёрный ручей упал, — предположила Зина.
Так называлось глухое лесное место.
Подруги быстро сели в сани, поехали в деревню. Вражеский самолёт заметили и другие, событие взбудоражило всё Чурово. Несколько человек побежали к бригадиру Афанасьеву, тот сообщил в соответствующие органы о происшествии.
Спустя час-другой, к избе деда Клочкова, которая стояла на окраине деревни, ближе к лесу, постучал незнакомец. Дед вышел и увидел перед собой фрица — лицо в ссадинах, одежда порвана, в глазах страх. Клочков понял, кто он таков, но не испугался врага. И, вот уж истинно русский характер, даже вынес фашисту кружку молока, когда тот знаками показал, что он хочет пить.
После, прихрамывая на левую ногу, Клочков повёл фрица в центр деревни. Там уже собрался народ. Фашист, мешая отдельные русские слова с немецким языком, а больше знаками пояснил, что залез на дерево, увидел дым из печной трубы и по нему вышел на деревню. Взяв прутик, фриц нарисовал на песке фигуру, а потом сложил крестом руки на груди: мол, там мертвец.
Бригадир отдал распоряжение снарядить подводу на Чёрный ручей.
Подвода уже отъехала, когда на окраине Чурова, на большой луговине, приземлился самолёт из Вологды, прилетело военное начальство.
Причину полёта вражеского самолета и неожиданного падения доподлинно так и не узнали. Из допроса пленных выяснили, что трое членов экипажа просили командира сделать посадку на поле, но тот ответил: «Я в руки русских не сдамся живым». И развернул машину в сторону леса. Трое воспользовались парашютами, обрывки куполов белели на верхушках деревьев, а командир, якобы, разбился, но его труп почему-то не нашли.
Пока один из членов экипажа добирался до деревни, двое других сожгли все документы и бумаги. Какова была цель их полёта в глубокий тыл — осталось тайной. Хотя пленные говорили, что имели задание сфотографировать Волжскую плотину в Рыбинске.
Два дня пленных держали в здании начальной школы, а на третий увезли в Вологду.
В памяти Клавы надолго засел страх от всей этой истории.
Да и другие девчата побаивались ходить за грибами или ягодами в сторону Чёрного ручья, всё им казалось, будто мёртвый немец ремонтирует там самолёт, который так и остался в лесу, вывезли его оттуда, спустя годы.