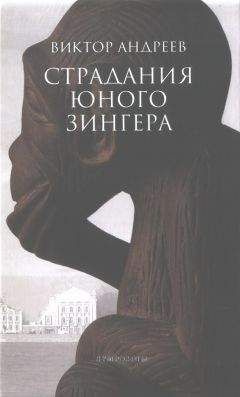«Фигляр, шут гороховый, бабник… — мстительно-сладострастно думала Эмма Михайловна, выходя на улицу. — Старик уже, а все ерничает».
— Он думает, он мне настроение испортит, — бормотала она уже вслух, открывая дверцу машины. — А это мы еще посмотрим!
Эмма Михайловна выехала на проспект; чувствуя, что все еще неприятно взволнована, закурила — хотя в машине обычно не курила. «Он думает… Ничего у тебя не выйдет, дорогой!» Какая-то девушка голосовала, нетерпеливо выскакивая на мостовую. Эмма Михайловна просто до боли зубовной ненавидела «всех этих пигалиц, наглых и длинноногих»… Ненависть к молодым женщинам появилась у нее несколько лет назад, после одного случая. Эмма Михайловна отчитывала (а она, что греха таить, любила выказать власть) в своем кабинете молоденькую преподавательницу за опоздание (а как же иначе: дисциплина — прежде всего!). Эмма Михайловна была аб-со-лют-но права! А с давних пор неписаным правилом на кафедре было: если тебя ругают — будь любезен выслушать все покорно и признать свою вину. В тот раз Эмме Михайловне показалось, что слушают ее недостаточно внимательно… точнее: просто-напросто «эта девица» пропускала ее слова мимо ушей. «С вами разговаривает человек, который старше вас, — почти по-матерински мягко сказала она провинившейся, — а вы, я вижу, меня не слушаете. О чем вы думаете, нельзя ли узнать, любезнейшая?» — «Я думаю, что вы — злая и глупая женщина!» — дерзко ответила «любезнейшая», да к тому же глядя прямо в глаза Эмме Михайловне. Счастье еще, что в кабинете, кроме их двоих, не было никого… Конечно, молодой бестактной преподавательнице пришлось вскоре уволиться (пусть меня благодарит, что по собственному желанию!), но неприятный осадок остался в душе Эммы Михайловны надолго. Не желая еще когда-либо услышать нечто подобное, она стала — по возможности — общаться со своими подчиненными посредством записок; для этого на одном из столов на кафедре поставили даже специальный ящичек. (Правда, она знала, что преподавательницы язвили: «Дубровский имел сношения с Машей через дупло дуба», — но тут уж она была бессильна; да и мало ли что говорят о ней за ее спиной!)
«Впрочем, что это я? — встревожилась Эмма Михайловна. — То муж, то эта выскочка!.. Нервы, нервы… Ну, нет! Не поддамся. Беру себя в руки!»
Она остановилась на перекрестке перед красным светом.
«Красный… — подумала она рассеянно. Потом вновь взглянула на светофор. — Да, красный… „Красное и черное“… А черный цвет у Флобера… — Сзади загудели. Блаженно жмурясь, Эмма Михайловна включила передачу. — В этом что-то есть… Должно быть! Да, несомненная перекличка… и об этом еще никто не писал… А ведь Эмма… э-э, скажем, в церкви. Во время свидания с Леоном… важная в романе сцена… Эмма — в черной накидке. И — черные каменные плиты… Или вот: карета с опущенными занавесками — пусть они и желтые, и клочки бумаги — белые мотыльки… но опустились они на красное поле клевера… Да, да, красное и черное… перекличка цветов… без всякого сомнения. И никто, кажется, еще не писал, никто не сравнивал, не противопоставлял… А я, как это я раньше не обратила внимания?! Меа culpa, да, отрицать не стану. — Эмма Михайловна снова закурила, теперь нервничая по-иному. — „Эмма“ — 1857. „Красное и черное“ — 1831. На добрых четверть века раньше… Когда „Эмма“ родилась — Стендаля уже пятнадцать лет как не было в живых. Надо будет обязательно почитать об отношении Флобера к Стендалю… Флобер — умница, мастер. Великий стилист! Ну кто может сравниться с ним во французской литературе? А Стендаль? Да ведь он и писать правильно не умел. Смешно сказать — писатель, а писал с ошибками!.. А ведь еще и великим считается! Анри Мари Бейль. Смешно-с!.. Красное и черное… так… отношения авторов и героев… Да, да, да! Какая параллель! И этого никто не заметил. Или все-таки уже писали об этом? Надо проверить. Сегодня же! Да, сегодня же! И если… если… Господи, если… только не торопиться… Ну что же, что же, в любом случае, вы, Эмма Михайловна, — молодец и умница. Поздравляю! От всей души!»
Теперь она уже без горечи вспомнила об утреннем письме. Улыбнулась. Подмигнула своему отражению в зеркальце. Что там было сказано о поражениях, которые она умеет превращать в победы?! «В этом вы, мой дорогой Евгений Георгиевич, абсолютно правы. И ни к чему иронизировать! Да-с!»
Эмма Михайловна остановила машину у входа в институт. И снова улыбнулась. Какой будет сегодня день? День победы!
У старика Николая Ивановича Поликарпова умерла жена. Дом сразу же стал — огромным и тесным. Старик как неприкаянный бродил по дому, непрестанно бормотал:
— Вот ведь померла… лучше бы я помер первым… а то кто же за хозяйством присмотрит… кто за хозяйку-то в доме будет… поторопилась Богу душу отдать… а я еще донашиваю тело…
Он недоуменно вздыхал. Время стало чем-то бессмысленным, непонятным. Время-бездельник.
Николай Иванович и раньше, случалось, разговаривал сам с собой — теперь это стало его постоянной привычкой. Бесцельно ходил старик по комнатам, трогал вещи, вздыхал, бормотал. И постепенно бормотания эти привели старика к одной, очень простой, мысли: «Я должен рассказать… жизнь прожил… это дело серьезное… я должен рассказать».
Он пошел в сельмаг, долго, придирчиво выбирал тетрадки, чернила и все бормотал себе под нос:
— Дело это серьезное…
Дома он сухо-насухо вытер огромный обеденный стол, аккуратно разложил и расставил бумагу, ручку-вставочку, перья, склянку чернил. Непослушными дрожащими руками на обложке двухкопеечной ученической тетради старик со старанием — будто первоклассник в прописях — вывел:
«Жизнь крестьянина Поликарпова Николая Ивановича, жителя села Капитоново с 1903 года, рассказанная им самим в этой тетради».
Аккуратно получилось — ни пятнышка не посадил.
Раскрыл тетрадь.
И — надолго задумался.
Непривычная тишина установилась в доме. Старик сидел торжественно и неподвижно. Он вспоминал сразу многое и подробно. Его собственная жизнь и жизнь его родных, его односельчан была ему ясна — как была ему ясна и важность того дела, которое он задумал сегодня. Старик шевелил губами, но слова не прорывались наружу. Слов не было.
С чего же, с чего же ему начать?
С главного… конечно, с главного… но только что главное? С самого начала… но где оно, его начало?
Он вспомнил о своем дяде — генерале, герое, участнике Первой мировой, гражданской, финской, Отечественной… Старик и видел-то его всего два раза в жизни, но в семье Поликарпова свято хранили предания о легендарном родственнике. Николаю Ивановичу вспомнилось все, что он знал о дяде. И прежде всего: дядя в четырнадцатом году бежал из германского плена. Сколько об этом было тогда разговоров — и в семье, и по всей деревне!
Писать надо самое важное…
Старик взял ручку, еще мгновение подумал и решительно вывел на первой странице тетради:
«Мой дядя Сергей Афанасьевич, генерал Советской армии, когда во время Первой империалистической войны в 1914 году бежал из германского плена, его приютила у себя женщина необыкновенной красоты, на которой он вскоре женился и которая потом сошла с ума и умерла в страшных мучениях от неизлечимой болезни».
Он перечитал написанное — фраза понравилась ему необыкновенно! Потом старик посмотрел на выведенные его рукой слова, далеко отставив от себя тетрадку… потом — сняв очки… потом — поднявшись во весь рост над столом, сверху вниз… все хорошо… очень хорошо!
Старик долго ходил по комнате, вышел в сени, затем спустился в сад. Ходил по саду неспешно, довольный, многозначительно взглядывал на сентябрьские яблони, почему-то грозил им пальцем:
— Это вам не хухры-мухры. Не-е-ет!
Долго не мог Николай Иванович успокоиться. Все повторял и повторял — про себя и вслух — написанную им фразу; и она нравилась ему все больше и больше. Сразу запоминается, так и прикипает к душе навеки! Хорошо!.. Вот так и надо писать… Надо писать и дальше…
Он вернулся в дом, подошел к столу, на котором лежала и ждала его раскрытая тетрадь, взял ручку, хотел продолжить начатое дело, но вдруг понял, как сильно он сегодня устал!
Уже темнело.
Старик еще — несчетное количество раз — повторил про себя свою фразу, и заснул в эту ночь Николай Иванович крепко и счастливо. Он исполнял на земле нешуточное дело.
Черт бы меня побрал: я оказался до невозможности живучим! Я уже почти совсем ослеп и оглох, почти не встаю с постели — и все никак не могу умереть.
Всю жизнь меня с удивлением спрашивали: как, почему я оказался во Дворце, почему был принят с таким почетом? — и я всю жизнь вынужден был отмалчиваться. Но теперь, когда столько лет прошло, когда все из причастных к тайне поумирали уже, когда я сам на ладан дышу, — теперь не могу я тайну в могилу с собой унести. Никак не могу. Иначе не будет, чую, покоя моей душе на том свете.