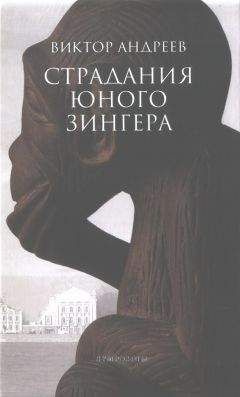…Из книг вы, наверное, знаете: лет семьдесят назад на Земле ожидали луч синхронизации. Он должен был прийти из Космоса и «подправить» нашу матушку-планету. Ученые высчитали: луч должен упасть на Россию. И как раз с нашей России начнется, значит, обновление всей Земли.
Также из книг вы, должно быть, знаете: тогда, семь десятков-то годов назад, Россия была нищенской, голодной страной. Страной-доходягой (если вам известно, что значит слово «доходяга»). Спасать ее кинулся весь мир, появился даже термин такой… дай Бог памяти… «гуманитарная помощь»… Да… А кинулись ее спасать как раз из-за луча синхронизации! Чтобы самим — всей планете то есть — не пропасть.
Все знали, что падет луч на Россию, но вот в каком конкретном месте — никто не знал. В лучшем случае говорили: где-то в Сибири.
Ну, значит, отправили к нам, в Сибирь, тьму-тьмущую разных икс… экспедиций. Академиков всяких, профессоров. Словом — ученых.
А я тогда молод был. Лесником работал — верстах в трехстах от города… нет, не вспомню, забыл начисто, какой город… в названии что-то «красное» было… а я в ём и не бывал-то никогда…
В тайге — хорошо. Тишина, безлюдье. Благодать! Не та благодать, какая сейчас — другая, мне ее словами и не выразить, даже пытаться не буду.
Жил я себе, поживал, в радости и в спокойствии, и вдруг ко мне заявляется эта самая… ну, да, экспедиция. Муж и жена. Оба — шибко ученые. Со званиями.
А я ученых — тех, которые не от природы, а от науки — побаивался. Я, когда к людям приходил, то все с простыми, такими же, как и я сам, общался.
Спасение России — дело святое. Хочешь, не хочешь — пришлось незваных гостей принимать. Чудные они были. Обычной пищи почти не ели — все у них консервы да консервы. И всё чего-то высчитывали, писали, спорили. До хрипоты, бывало, спорили. Но до рукоприкладства, признаться, у них дело никогда не доходило. Видимо, уважали друг друга. И к тому же культурные были.
Уезжали они обычно чуть не на целый день куда-нибудь, но спать — в мою избенку возвращались. Случалось, муж один по каким-то своим делам уезжал, и тогда жена его, Софья Владимировна, со мной оставалась. Она была рослая, красивая. Петь любила. И голос у нее был красивый. Задушевный такой!..
Я на нее глаза боялся поднять.
Нет, не то чтобы я женщин не знал или не любил. Скорее, наоборот… Как, бывало, в какую из соседних деревень приду — гуляю, милуюсь. Но ведь это всё девки были простые, нашенские. С ими же не надо было тары-бары всякие там разводить — с ими надо было сразу за дело приниматься. Портки то есть сымать. Тем более, что и мужиков в деревнях было не густо — раз-два, и обчелся. И то чаще — всё старики. А я молодой был, природой взращенный. Как они меня, лапушки-зазнобушки, баловали! Уж как баловали!
Ну вот, а с ученой-то дамой как себя вести? Как у них, у академиков этих да профессоров, заведено? Она хоть, скажем, и жена, а может, она и нетронутая вовсе?
В общем, не пара мне. Хоть и красавица.
Ну, значит, уехал однажды ее муж куда-то, с самого утра уехал, а жена его, Софья Владимировна, значит, со мной осталась. А день какой-то чудной выдался. Ни разу таких потом не было! В тайге все светилось — словно праздник какой у природы.
Софья Владимировна моя, смотрю, забеспокоилась. На небо смотрит, губами шевелит беззвучно: о чем-то сама с собой разговаривает.
А тут, как водится, и полдень наступил.
Внезапно — какой-то дивный свет, яркий-преяркий, хлынул с неба на землю.
Тело мое легким стало. Словно вот-вот полечу. И все вокруг будто бы тоже взлететь стремится. Даже сосны вековые.
И все светится светом нестерпимым.
Я глаза невольно закрыл. Стою с закрытыми глазами, прислушиваюсь: что дальше будет?
А Софья-то Владимировна как бросится ко мне! Повалила на землю, целовать принялась. Да так страстно, так торопливо! И штаны с меня стаскивает — аж пуговицы с ширинки посыпались!
Ну а я — ох, смех! — хорош: лежу, зажмуренный, ошарашенный, словно в параличе каком.
— Да что же ты?! Скорей! — Она, слышу, чуть не плачет.
Тут я глаза приоткрыл. Мать честная! Софья Владимировна-то на мне, как на коне, вертится, голой жо… задницей своей крутит. И вся она — голая. Ну, просто голее не бывает. Груди у нее так и прыгают, бьются друг о дружку. А горячая! — хоть прикуривай от нее.
И вся светится. Просто нечеловеческим каким-то светом светится.
Я голову слегка повернул: батюшки! и избушка моя неказистая, словно дворец золотой, сверкает. Да и всё-всё вокруг — будто из золота. Даже и пуговки с моих штанов, рядом, в траве валявшиеся, и то как камушки драгоценные горят.
А Софья-то Владимировна все повторяет, умоляюще:
— Ну что же ты?! Скорей же! Скорей!
Я, как дурак последний, и сказани себе в оправдание-то:
— Да вот, глаза болят. Смотреть не могу, ей-богу. Боюсь: ослепну.
А она мне тотчас в ответ:
— Для этого дела глаз не надо! Закрой. И скорей же, прошу тебя! Скорее! Скорей!
Я глаза и в самом деле закрыл; и тут паралич мой, слава Богу, прошел, упрашивать меня больше не пришлось… И кажется, не посрамил я мужское племя…
Наверное, с час это сияние неземное разливалось, не угасало.
Наконец Софья Владимировна успокоилась, затихла. Легла рядом на траву и шепнула мне на ухо непонятное:
— Мы — избранные.
Потом уже я узнал: мол, если там, куда острие луча упадет, люди окажутся, ну, мужчина и женщина то есть, и дитё зачато будет, то ребенок этот станет спасителем России. А через Россию — и всей Земли.
Так и случилось: воистину Божественную Мудрость дитё мое в миг зачатия получило.
Только не захотели власти, чтобы отцом я был признан. Слово с меня взяли, что молчать буду о происшедшем в тот день. Зато и во Дворце поселили, чтобы очень уж обидно мне все ж таки не было.
А в народе слухи пошли о непорочном зачатии. Ну, как бы новая Дева Мария. И Христос-Спаситель.
Вот так и получилось, что я промолчал всю жизнь. Но не выдержал, рассказал сейчас — не мог я тайну в могилу с собой унести. Вы уж простите меня, люди добрые!
У одного писателя-фантаста, с которым я знаком, есть рассказ. Сюжет его, вкратце, таков.
Он, автор-рассказчик, жив только потому, что он — должник. Далее следует вполне реальный список: кому и сколько он задолжал. В списке — и моя фамилия. И вот автор-рассказчик, разбогатев, постепенно отдает деньги. В тот момент, когда он возвращает последний долг, — он перестает существовать. Исчезает из реального мира.
Этот писатель сейчас достаточно знаменит. Если вы с ним где-либо встретитесь, не удивляйтесь и не пугайтесь. Вы повстречались отнюдь не с призраком.
Не знаю, как остальным, но лично мне он в реальной жизни долга своего так и не вернул. Ну что же: вероятно, именно благодаря мне он еще и до сих пор жив.
Утешусь, как гуманист, хотя бы этим.
Седьмого октября 1571 года в бою при Лепанто отважный солдат Мигель де Сервантес был ранен в левую руку. Она навсегда осталась парализованной. К вящей славе правой руки.
В 1899 году испанский писатель Рамон дель Валье-Инклан в кабаке в случайной пьяной драке покалечил левую руку. Началось заражение крови, руку пришлось ампутировать. И тоже — к вящей славе правой.
Господи, Ты — всемилостив и справедлив. В душах людских Ты читаешь, словно в открытой книге. Ведомо Тебе, кто из нас чего достоин. Знаешь, что иная утрата — благо для человека.
Но: как Ты узнал, что оба они (и Сервантес, и Валье-Инклан) — НЕ левши?
Хотя мы с ним никогда не встречались, я знаю: мы не похожи друг на друга. И хотя мы с ним не похожи — нас путают и мне постоянно приходится «отдуваться» за него.
Может быть, мне снится, что я — это он? Или ему, что он — я? Или поставлены друг против друга сновидческие зеркала и нет конца-края подобиям да отражениям?
Может быть, я завидую ему? Ненавижу? Но в любом случае: я восхищаюсь им. Три странички, а то и просто один абзац, — и перед тобой целый роман. То, что ни единого слова не убавить, — об этом и говорить нечего. Но ведь и не прибавить — тоже!
Мы с ним не похожи ни в чем. Единственное, что нас сближает: мы оба пишем, пишем постоянно, с наслаждением, и оба гордимся каждой не написанной нами книгой. И девиз у нас один: «Что бы ни написал — всё плохо, что не написал — хорошо».
Из необязательных глав «Игры в классики» Кортасара
У каждого человека есть какая-либо фобия. У меня разных фобий — полным-полно. Поэтому меня и привлекает писательство. Ведь расскажешь о страшном, оплетешь его легким кружевом слов — и уже не страшно.
Мои рассказы чаще всего рождаются из ночных кошмаров. Я стараюсь записывать их тотчас же по пробуждении.