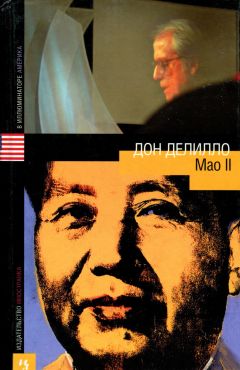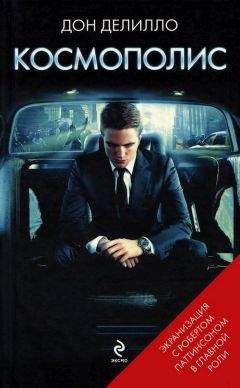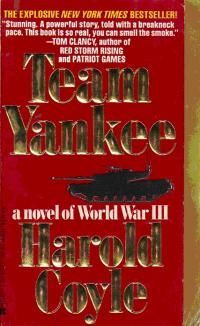Вскинув голову, он сказал вслух:
- Келтнер не спешит, легонько чиркает по мячу. Ого, ребята, ну и бросок! Как провод протянул!
Снял ботинки и носки. Развалился в кресле с блокнотом на коленях, положив ноги на кровать. Нужно потолковать с врачом и выпить. Начать с выпивки. Но вставать будет больно, идти в кафе больно, сидеть и дышать больно, небось даже глотать и то будет больно; следовательно, здесь мы имеем классическую дилемму. Зря не спросил у Чарли, как бросают пить. Он любил своего старого друга, испытывал к нему неослабевающую нежность все те часы, которые они недавно провели вместе в Нью-Йорке и Лондоне, чувствовал неослабевающую тягу уйти, распрощаться, сделать ручкой. Чарли любил порассуждать о том, как доживет до старости на Парк-авеню, воображал себя иссохшим старичком в инвалидной коляске, которую толкает какая-нибудь бессловесная чернокожая сиделка в бесшумных кроссовках. Она неустанно передвигает коляску, чтобы он всегда был на солнце. Он так стар и дряхл, что еле дышит, но его нарядили, точно ребенка в праздничный день, надели на него великанский пиджак, рубашку с болтающимся, как слюнявчик, воротником, он беспомощен и элегантен. Он видел себя закутанным в одеяло в самое теплое время дня на самом солнечном отрезке улицы. Когда на тротуар падает тень, сиделка выталкивает его на свет, и так они вечно, неторопливо следуют за солнцем, и вот он опять застывает истуканом на углу довоенного дома, нежится в самом теплом на ближайшие пятнадцать минут месте; пророча себе склеротический закат, Чарли заливался слабым румянцем сладостного стыда.
Билл мог бы выбрать такую смерть: миндальное мыло, новехонькая мебель на кухне, вдова с автоответчиком. Он любил своих старых друзей, но завидовал кое-чему из того, что они имели, и мечтал, чтобы они от этого - не важно, от чего - отказались; пусть все опять будут на равных.
Фейерверки назывались салютами.
Эта жизнь едва ли не сплошь - волосы: волосы забиваются в пишущую машинку, каждый волосок сверху донизу обрастает пылью, обвивается, весь такой пушистый-пушистый, вокруг молоточков и рычагов; волосы липнут к фетровой обивке футляра точно так же, как спиральные завитки мочалки впиваются в брикетик мыла, приходится выцарапывать их ногтем; все его клетки, чешуйки и гранулы, все его поблекшие пигменты; вездесущие клоки волос попадают в строительный раствор, становятся частью возведенных им текстов.
Раз уж приходится дожидаться парома, не осмотреть ли достопримечательности… Он что, вслух это произнес? Турецкий форт, Английское кладбище. С болезненно-сосредоточенной гримасой он осторожно переменил позу, проверил, что влекут за собой те или иные движения, как отзывается в теле перераспределение тяжести. Оказалось, встать с кресла можно без проблем. Пошел в туалет, помочился - ни капли крови. Задрав рубашку, осмотрел синяк на животе: не расползается, форма прежняя, цвет прежний. Посетить выставку средневековой керамики, деревню кружевниц. Посмотрелся в зеркало, обнаружил, что несколько дней не брился. Расквашенная половина лица - не лучше, но и не хуже. Скорее даже лучше и определенно не хуже. Он решил надеть носки и ботинки, совершить - пускай только ради того, чтобы удрать от разверстой пасти блокнота, - маленькую экскурсию.
В правом плече ощутимо покалывало.
Он мог бы сказать Джорджу: я пишу о заложнике, чтобы возвратить его на прежнее место, вернуть миру частицу своеобразия, которую мир утерял, когда пленника заперли в том подвале. Да, именно так. Наказывая того, кто непричастен к преступлению, переполняя подвалы безвинными жертвами, вы каплю за каплей откачиваете из мира своеобразие, навязываете ему диктатуру вашего единственного мнения, и тогда дух пожирает то, что вовне, подменяет реальность нелепыми измышлениями о заговорах и прочих кознях. Одна нелепица берет мир в тиски и прессует, другая зарится на общественный строй, пытается срастись с ним, пропитать его собой. Он мог бы сказать Джорджу, что для писателя сотворение персонажей - способ раскрепостить сознание, затеять бурный обмен мнениями с мириадами чужих своеобычностей. Вот чем мы отвечаем на насилие, вот как мы подавляем в себе страх - расширяем диапазон человеческого сознания и возможностей. Этого поэта вы украли. С его пленением мир стал еще чуточку однообразнее. Вот что надо было сказать этому мерзавцу - хотя вообще-то Джордж ему нравится. Впрочем, говори не говори - все равно Билл только недавно стал так смотреть на вещи, а Джордж, конечно же, возразил бы, что террористы не располагают подобной властью; и вообще Билл понимал, что вскорости обо всем этом забудет.
Помнил он то, что важно: что отец носил шляпу, которая называлась "Ритц", серую с черной лентой и упругими, шершавыми полями, и вечно кто-нибудь да говорил: "Прежде чем делать заказ, снимите мерку с головы" - это была фраза из каталога фирмы "Сире и Робак", - и что фейерверки назывались салютами.
Он подумал: хорошо бы посидеть на солнце, удрать от треклятого блокнота. Поймать такси, поехать на набережную, присесть на скамейку, около которой стоят парусиновые корзины с рыбацкими сетями. Медленно зашнуровал ботинки, но затем откинул с кровати покрывало и прилег на постель, всего на минуточку, чтобы унять головокружение, избавиться от чувства, будто неудержимо истончаешься, блекнешь, таешь в какой-то дали.
Волосы льнут к ковру, висящему над кроватью, волосы забиваются в сетчатый фильтр ванны, застревают в трубе, липнут к сальной раковине, лобковые волосы образуют причудливые узоры на стульчаке, волосы на затылке прилипают к воротнику рубашки, волосы в тарелке, на подушке, во рту, но больше всего он их замечает в пишущей машинке, эдакий волосонакопитель; все, что выпадает, застревает в механизме, колтун и седина, пушистый хаос, все, что не чисто, не твердо, не ярко.
Найти бы человека, который будет всякий раз выталкивать меня из тени на солнце.
Всегда есть что-то, чего тебе видеть не положено - но, пока этого не увидишь, не станешь взрослым.
Когда мальчик срывал с его головы мешок, пленник вглядывался в стену, пытаясь рассмотреть приникших к ней ящериц. Они были маленькие и блеклые, молочно-зеленоватые, такие блеклые и неподвижные, что, не сосредоточившись, не заметишь.
Подвал высосал из него всю тоску. Остались только образы.
Всеведущее время, навьюченное на насекомых, двигалось мучительно медленно, если вообще можно сказать, что оно движется, если вообще можно назвать его временем. Оно разве что с ним не разговаривало. Оно тоже изнывало от отчаяния, оно присутствовало в еде и в последствиях еды, оно проникало в ткани его тела под видом лихорадки и инфекций, вытекало вместе с нескончаемым жидким поносом.
А образы были маленькие и невнятные, потускневшие от времени. Ему хотелось думать о горящем городе, о ракетах, взлетающих с пусковых установок. Но единственные образы, которые удавалось вылепить его сознанию, были обрывочными и глубоко личными, непостижимыми крохотными картинками из жизни неведомого дома, где движутся неясные силуэты, как бы в дальнем конце сумрачного коридора.
Пленник очень нервничал оттого, что у него не было карандаша и бумаги - ни огрызка, ни клочка. Мысли вываливаются из головы и умирают. Чтобы поддержать в мыслях жизнь, он должен их видеть.
Ящерицы представлялись ему осколками света, солнечными лучами в форме заостренных кусочков жадеита. Он запоминал их расположение на стене и пытался унести эту картину в мир мешка.
Мальчик был одет так: спортивная фуфайка с чужого плеча, под ней - темная футболка, штаны камуфляжные, грязные; на ногах - рваные полосатые кеды.
Война шла теперь безо всякого расписания. Возобновлялась когда угодно или вообще не прерывалась; израильские бомбардировщики кружили над городом с вездесущим ветхозаветным грохотом - казалось, рушится от взрывов сам небосвод.
Себя пленник считал любимой игрушкой мальчика. Вовремя подвернувшейся штуковиной, которую мальчик может приспосабливать и подгонять под свои переменчивые замыслы. Для мальчика он был детством, идеей светлой зари жизни. Юнец, найдя какую-то вещь, без стеснения делает ее стержнем своего бытия, и теперь вещь таит секрет подлинного "я" мальчишки: Пленник много размышлял об этом. Он стал счастливой находкой, позволившей мальчику отчетливо увидеть самого себя.
Потом он все-таки перестал запоминать ящерок. Решил не нарушать какое-то жесткое, не совсем понятное ему самому правило.
Его тело начало распухать. Наблюдая за превращением своих ног в белесые аэростаты, он не признавал их за свои. Сначала ушли голоса, а теперь и плоть уходит.
Никто не приходил его допрашивать.
Стало трудно встать или даже изменить позу на матрасе; он осознал, что близится время, когда он превратится в коллекционера неизлечимых синдромов. Точнее, они сами придут и в нем поселятся. Серозная жидкость в тканях, спазмы в груди, полный набор.