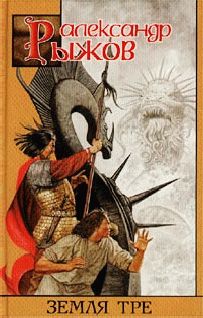«На самом деле я бы мог, конечно, сказать, что, хотя он и был несчастен в своем несчастье, еще более несчастным он бы стал, если бы вдруг потерял свое несчастье, если бы у него в одночасье отняли его несчастье, и это опять же является доказательством того, что, по сути, он в общем-то был не несчастным, а счастливым, и все благодаря своему несчастью и с его помощью, думал я». Предложение из «Пропащего» Томаса Бернхарда как лупа увеличило НЕСЧАСТЬЕ и СЧАСТЬЕ, и, как это иногда бывает, вдруг стало ясно, что первое означает «не часть я», отделенность, одиночество, неучастие в целом, а второе — наоборот, участие, вовлеченность, причастность к целому. Один из героев романа, пианист, раздавленный величием Гленна Гульда и отказавшийся от музыки, несчастен именно в своем неучастии. Правда, Бернхард заявляет, что в этом его счастье. Но вряд ли счастливый человек повесился бы. Этот герой стал затворником, продал рояль, оборвал все связи, стал неучастником.
Из самого себя, в себе человек не может быть счастлив, увы.
Попутное впечатление: интересны лишь странные люди («Без маклера недвижимость продать невозможно, а маклеры вызывают у меня отвращение, думал я».). А они, как правило, несчастны.
«Гольдберг-вариации» И. С. Баха постоянно упоминаются в романе, эта вещь даже объявляется запальчивым рассказчиком главной причиной смерти друга. В конце романа он ставит пластинку и слушает ее. И читатель может сделать то же самое, чтобы убедиться: какая бездна разделяет мир стройных звуков и задыхающийся мир романа. Да ведь и Бах, бывало, задыхался, в жизни, не в музыке. Так что бездна преодолима. Но не для человека тупика, сиречь пропащего в своей гордыни.
…И сегодня ночью меня преследовали металлически ясные звуки-ручьи клавичембало, слушал после чтения, есть в этой музыке что-то магическое.
Все ближеВ «Пушкинском доме» Битов очень лестно отзывается о Домбровском. А у меня он есть, Домбровский, но в давнем издании «Нового мира», выпустившего его вместо нескольких номеров журнала, не вышедших по техническим (?) причинам, печать скверная, бумага серая… Но тут взялся. Пятая глава, сюжета еще нет. Текст напоминает скорее очерк. Много типографских ошибок. Уже думаю и оставить чтение. Но продолжаю. Дух Азии манит, влечет по закоулкам уже моей памяти. И вдруг сюжет — проступил со всей определенностью, сюжет стародавний: бросили героя в ров со львами… скорее с гиенами. Что будет? И с пятой главы книгу прочел залпом. Охмелел даже. Талант всегда хмелит. Но это просто гениальный ход: погрузить читателя в археологию, в полусон солнечный, лунный, тенистый, — обвиться вокруг него нежно, расслабляюще, — и вдруг так же нежно и бережно сковать его кольцами… еще сильнее — так, чтобы дыхание перехватило.
Но самое странное — и страшное? — это то, что версия «органов» показалась и мне… неужели убедительной? Увы. И произошло это помимо моей воли. Что-то во мне дрогнуло. Потапов — белоказак, бумага из германского посольства… Да ясно же, — чушь собачья! А… что-то дрогнуло. На дворе 21 век, «Архипелаг» прочитан, пережит. На осколках его я и сам побывал. Ну?! Нет, что уж лукавить. Хотя я просто читал об этом, лежа на диване, попивая чаек, — не меня подхватили на ночной дороге (сцена появления двух машин неотразима, в ней какой-то священный ужас, жрецы или демоны, блуждающие с желтыми очами-фарами, узрели героя на дороге, взяли с собой) и привезли в каменную резиденцию, где и ознакомили с «делом». Домбровский сумел изготовить эту отмычку НКВД на наших глазах, отмычку для душ. Но кроме отмычек на вооружении были обыкновенные фомки. Фомкой — в зубы.
И вот итог чтения: я раскололся, на миг — а поверил.
Все гораздо ближе, проще: это в нас. Дирижер взмахнет палочкой — и начнется. Нет прививок — долгих, многолетних, иммунитет не выработан. А у Домбровского откуда он был?
Звери и сныПо ночам вокруг палатки кто-то ходит, шуршит листвой. В конце концов мне снится медведь. Две ночи подряд. Но сюда они не забредают. Здесь живут лоси, кабаны, лисы, косули; недалеко логово волка, большая нора, вырытая в склоне оврага. Лосей я вижу днем в крапивной чаше над ручьем. Косули по утрам лают. Как только залезаю в палатку, замуровываюсь в спальник, раздаются бодрые прыжки, да, очень звучные, по палой листве-то. Как будто поспешает какой-то тушканчик с радостной вестью. Но у палатки он тормозит, вспомнив, наверное, о приличиях или, наоборот, позабыв свою весть, и, постояв в задумчивости, так же бодро удаляется. Несколько раз я выглядывал, но ничего, кроме черных теней деревьев и всюду сквозящих звезд, не видел. Вообще полевки могут прыгать. Но этот ночной визитер явно крупнее. Наконец днем я услышал те же самые прыжки, быстро повернул голову — это была белка, она передвигалась скачками, что-то выискивая на земле, среди ворохов листвы; вскарабкалась было на ольху, но снова спрыгнула на землю. Белок здесь нет по простой причине: хвойные не растут, ну, не считая нескольких сосен на одной горе и на другой. Правда, много орешника. Но белкам этого мало. Скорее всего это такая же гостья, как и кедровка. Тайна разгадана.
В одну из ночей я проснулся от собственного смеха. Тут же вспомнил сон: показывали комедию с Пьером Ришаром под названием «Ночной побег», но никто никуда не убегал, и, поняв в конце это, присутствующие весело и дружно рассмеялись.
А я уже не смеялся, чувствуя отчетливый запах зверя. Он стоял где-то неподалеку. В лесу даже у горожанина обостряется нюх. Ему доступны становятся, как прежде, десять тысяч запахов, — цитата из древних китайцев, преувеличение, конечно, но запахи приобретают остроту, хотя бы основные. Какой именно зверь, — для того, чтобы определить это, надо жить дольше в лесу. До меня донесся осторожный шелест. Так мы и слушали друг друга, пока один из нас не уснул или не ушел, я утром уже не мог этого вспомнить.
Зато на ум мне пришла одна суфийская притча о шейхе, который шел себе ночью по пустыне, как вдруг его нагнал кто-то — шейх не оборачивался, — вспрыгнул на плечи, — шейх продолжал идти, — и, проехавшись верхом, это нечто соскочило и удалилось, шейх все шагал. Почему же ты не посмотрел, спросили его потом. Мне некогда было, ответил он, я был занят молитвой.
Правда, я-то был занят сном. Но мог бы до того, как меня сморило, выглянуть, посветить фонариком. Не знаю. Но некоторые вещи ни к чему разгадывать. Сдается мне, что и шейх придерживался того же мнения.
Следующий сон тоже оказался веселым. С братом мы зашли в магазин, там торговали афганцы, они угощали нас чаем; появился хозяин магазина, афганец в европейском костюме, с подносом, на котором лежали лепешки какой-то фирменной выпечки, кто-то отпустил шутку и снова раздался смех. Мне показалось странным, что они смеются; я приехал в отпуск из армии, воюющей у них на родине… А проснувшись, подумал, что ничего особенного в этом нет. Афганцы суровый, но веселый народ. Смеяться заразительно они умели и там — в чайхане, на базаре, на операциях; однажды даже плясали, встречая нашу колонну у каверзного Ургунского ущелья, — даже офицеры, бравые усачи в фуражках «аэродромом» пустились в показательный пляс на торжественном построении; играл оркестр.
Но во сне все всегда напряженнее и значительнее; это уже творческое преломление действительности об колено, слом вселенной, выпячивается что-то одно, уходит в тень другое.
Этот сон был продолжением восточных реминисценций. В этом походе они не оставляли меня. Вообще, в удачном походе, как в хорошей книге, события и вещи перекликаются, зеркально бликуют, отражаясь друг в друге. И тебе кажется, что кто-то настроил все так. Даже сны.
А неплохое название для них — «Ночной побег».
Но, кстати, так ли уж случаен и абсурден был этот сон? Если к палатке действительно приближался зверь.
Юг Юг ЮгНа прогулке пересказывал жене «Юг» Борхеса, мы приблизились к перекрестку напротив церкви Новых мучеников, краснеющей рваными осыпями нового дефектного кирпича, и жена почему-то спросила: «Это ты сейчас читал? Перед выходом?» Да. И я продолжил эту великолепную историю сумасшедшего, чей мир навсегда преобразился: его везут в скорбный дом, находящийся в районе Буэнос-Айреса под названием «Юг», а он уверен, что возвращается наконец-то в блаженные края детства, где его ждет длинный розоватый дом, ряд бальзамических эвкалиптов.
Рассказ написан так, что гипнотизирует и читателя, все двоится, кажется, что герой в самом деле возвращается на Юг, терпкий, солнечный, с суровыми законами пастухов-гаучо… Жена прервала меня замечанием, что я уже рассказывал это. Да? Странно. А мне казалось, только что прочитал. Неужели забыл? Такой сильный рассказ? Но, если так, ты должна знать, что будет дальше? «Я не помню», — ответила она. А я внезапно вспомнил: точно! уже рассказывал ей. И более того: на этом же месте, на перекрестке она меня уже прерывала той же самой репликой.