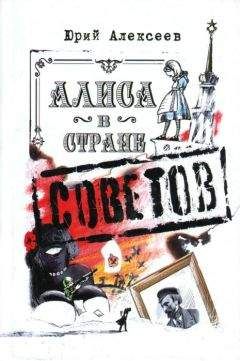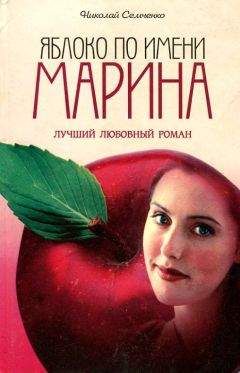— Мачеха-армия, — наставлял сквозь железные, мейд ин Нарым, зубы Цынга, — учит, падла, как геройски на стороне помирать, а тюрьма-матушка — как на родине выжить, прохарчеваться. И ещё, шпана, шариками подвигай: в армии два-три года ни за что чалиться, а у «хозяина» по первому сроку — год… Год — и привет Насеру! Отторчавших под ружьё не берут. В мирный день им цинковый ящик не полагается.
На пахомовца, испытавшего цену жизни на острие ножа, такая логика — год за три! — действовала безосечно. И, получив повестку от военкома, обитатель барака ухмыльчиво изрекал: «Ну-ну! Ждите!», выходил проулком на Советскую улицу, где несильно, в рамках года по Кодексу, квасил морду какому-нибудь зеваке, или разносил в осколки витрину салона красоты.
К таким демаршам мира, надо сказать, на Советской настолько привыкли, что в дни солдатских призывов число прохожих на улице сокращалось как при чуме, а у директора салона красоты глазной тик начинался. Сдавали нервы и у прокурора района Тропкина, и без того контуженного цветочным горшком в братской Венгрии. Нацепив на узкую грудь нашивку о ранении, он неотступно являлся в канун призыва в барак и, всеподробнейше рассказав о балконных метателях, принимался стращать, что де судимость в Стране Советов отрезает все пути-дороги, а служба в армии, чему он, прокурор — живой пример, пускает в двери любых институтов, заменяет так называемые способности. Своя логика тут тоже вроде была. Но когда прокурор в радении своём до при-пенка у рта доходил, крича для образности «Кто сядет, тому не подняться!», с колен какого-нибудь Витька поднимался в рост хмурый смышлёныш-дошкольник — барак всегда на трудное дело малолеток кидал — и говорил сквозь окурок взросло:
— Да ладно, начальник! Сидел, понимаешь, висел… У нас пол страны сидело. У дяденьки Котовско-го семь приводов было, и даже Сталин срок отторчал за грабёж сберкассы!..
Тем прения сторон и кончались. По второму кругу прокурор встречался со своими слушателями уже в зале суда. И хотя, в излом закона, он и вызуживал иному пахомовцу два года вместо одного, брал судью на арапа, оборонная мощь державы с того не полнилась. Пахомовец не шёл в защитники родины. Пахомовец шёл в Сталинский университет миллионов и выходил оттуда с «дипломом», пригодным разве что для рытья котлованов великих строек. Но и тут выходила промашка. На воле пахомовец лес не валил, и котлованам предпочитал подкопы.
Ведомое подсказками Тимура такси приближалось к цели. Городские коробки кончились, сменились утлыми домиками с окошками, притенёнными крестовыми рамами. Низенькие, казалось, вкопавшиеся в землю лачуги прятались за палисадниками и ждали смертного часа. В кювете криво застыл бульдозер, обещавший сравнять деревню с городом и пересадить частника на общественный унитаз.
Остановились в поле, на краю пустыря, обозначенного размытым дождём указателем «Строение № 4». Здесь на земле, как бы носившей следы ледника, среди забывших своё название бетонных глыб и железных оползней, высились три блочных этажа, а над ними в белом луче прожектора шевелилась стрела крана. Слева от него смутно, будто нарисованное тупым карандашом, различалось длинное тело барака. Подступы к нему разбили тягачи-блоковозы. В ухабах молочно кис снег-подталок, а на равнине он перемешался с землёй в непролазное тесто.
— Чёрт возьми, не пойму, что случилось? — сказал Дедуля, вглядываясь из-под руки в барак. — С чего по всему дому свет горит, когда там всего двое осталось — Витёк и Касьянов… Кстати, этот Касьянов — жуткий тип. Бандит и артист одновременно. Только представь, он выдает себя за потомка Распутина, утверждает, что зачат в каких-то там банях на Мойке. И именины свои, говорят, он отмечает именно в бане. В Оружейных, кажется. Нальёт в шайку водки, накрошит туда буханку чёрного и на страх публике деревянной ложкой жрёт. Ну, а потом либо с кем подерётся, либо «Луку Мудищева» в поминки «отца» читает.
— Что ж, послушаем, — поторопил Дедулю Иван.
Дедуля взбодрил себя мелким ругательством и ступил на условную тропку. Сдобренное цементом земное тесто чвокало и прихватывало башмаки. Иван попробовал было прыгать след в след поводырю, но махнул на эту затею, попёр напропалую.
— Между прочим, к этому Жоре Касьянову — фамилию из-за судимости ему на Распутина не дали сменить — иностранцы не раз приклеивались: не обижает ли знатных потомков власть? — продолжал на ходу Тимур. — И — мимо сада! Касьянов власть обожает. Бардак, говорит, люди крепкой закалки не критикуют, а пользуют сполна, говорит, на всю катушку!
— Оригинал! — сказал Иван ухмыльчиво. — И много ли от такой «катушки» он себе отмотал?
— Да не так уж и мало, — остановился передохнуть Дедуля. — Всю жизнь на дурика прожил, ничего тяжелее карандаша не поднимал. Вообще-то профессия у него паровозная — то ли кочегар, то ли машинист. Но приблатнённость — кепочка, сапоги — не велит ему работать руками. Да и не любит он этого. Сейчас для страху на исполком он не то сторожем, не то помощником машиниста сцены Дворца Оваций пристроился. Он очень нервный, сообразительный. На днях пять тысяч припадком взял.
— С каких это пор нервы так высоко ценятся? — не поверил Иван.
— А как из барака переселять начали, — уточнил Дедуля. — Жора с Касьянихой раньше всех развёлся, разделился — себе комнату, ей детей, лёг на пол в райисполкоме и не вставал, пока в барак не прописали его новую жену из Дербента с тремя деточками. Причём одному «крошке», представь, «еще шестнадцати нету», а половина зубов — золотых, и голова голая, как коленка. Прекрасное пополнение для лимитной Москвы!
Барак действительно был уготован к слому. Основная часть окон мёртво ослепла, щерилась напоследок осколками. Но в пяти уцелевших мерцали огни свечей, и через форточку серединного, как из печной вьюшки, валил густой дым, слышались пьяный галдёж и грохот отодвигаемых стульев — верный признак назревавшего мордобоя, если не поножовщины.
— Это недоразумение… я ничего не понимаю, — попятился от окошек впечатлительный жох. — Их же всех выселили, площадь дали…
Да и откуда было Дедуле знать, что торг Касьянова с исполкомом обернулся открытой войной. Витёк-Справка предпоследним выселился, согласился на квартиру в Очакове, выбрал дом без удобств, но с магазином в подвале. А подпитанный «молодой женой» потомок Распутина домогался квартиры на Садово-Черногрязской, в кирпичном Доме политкаторжан. Для успешности дела Касьянов принёс в исполком свидетельство о погашении судимости, справку о беременности дербентки и медицинское заключение о подозрении на туберкулёз; на что райисполком отрезал в бараке газ, воду, свет и письменно сообщил, что завтра же вытряхнет Жору с чадами и домочадцами к чёртовой бабушке. В ответ на такие посулы Касьянов очистил луковицу, вставил её себе в сидячее место, чем нагнал температуру до 38, взял больничный и вывесил над железной кроватью портрет Ленина. Ну, а чтобы бесчинство властей окончательно упредить, он под предлогом «родимый дом помянуть», «хором отпеть», скликнул общественность — то есть живых свидетелей. В обеспечение посиделок он с утречка проломил междустенки, образовал гостевой зал, где ловко составил кухонные столы покоем и угнездил на них две керосиновые лампы, а также поминальные свечи, что и придало сборищу как бы разбойный вид.
Когда Иван с Дедулей не без опаски сунулись в полумрак гостевого зала, там шёл пир горой, и стол ломился от однообразия — водка Российская и килька в томате, потому как вкусы пахомовцев сохраняются, в каком бы конкурсе баянистов или на олимпийской лыжне они ни триумфировали. Да и в экипировке они держали одинаковый стиль: нам не в театр, но и не в ссылку, прочность материи дороже моды. Кой-кто даже насобачился носить галстук и пиджак без припуска в рукавах, как это делалось, чтобы удобнее передёрнуть карту в «буре». Но в глазах, что Иван и в полутьме приметил, осталась стрёмная зековская искра, а в движениях — медвежатника, затруднение, куда лапы девать, пока драки нет, да и карты пока не розданы. В свободной повадке, пожалуй, держался лишь Касьянов — мосластый, казалось скроенный из одной арматуры перестарок с узкой змеиной головой и настороженными глазами малинодержателя. Напускного — мне законы не писаны! Всех зашибу! — было в Жоре с избытком, что говорило не о врождённой храбрости, а о жажде к личному, гипнотическому террору. Такие люди — тут Тимур ошибался — не любят партийно-тоталитарную власть уже потому, что пылают к ней ревностью обиженного, неоценённого и не пристроенного в должность карателя.
— Нашу! Русскую!! Калинку-малинку давай! — приказно ревел Лжераспутин, круша сопротивление единственной на всю компанию женщины, видать, бывалой, знавшей лучшие времена, но теперь огрузлой и ломавшей из себя по блёклости капризулю. — Кому сказано, влазь на стол!