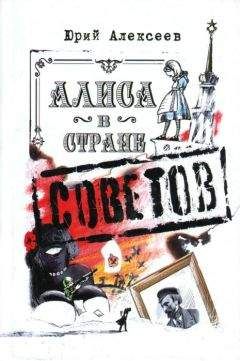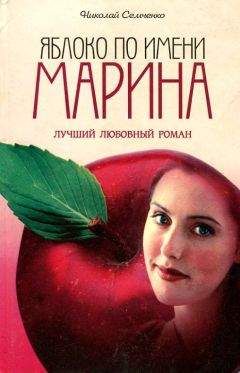— Воды! — страшным голосом взвыл Касьянов, забыв что, вода отрезана.
А пахомовцы повскакивали из-за стола и ревучей кучей кинулись к выходу.
— Спасайся, братва!
— Горим не за хер!
Остальные слова были окончательно нецензурными.
Иван и сам не заметил, как влился в поток беженцев, на ходу рвавших свои пальто с вешалки, и едва не задавил гадкого мальчугана, лапавшего под шумок Семёновну и оравшего:
— Суки! Что ж вы ребёнка бросили!?
Спорые на побег пахомовцы в считанные минуты оказались на улице. Окна барака меж тем занялись красным светом, приготовились от жары лопнуть. Над крышей злым буром курился дым, торя путь пленному смерчу. Но Жора из пекла не торопился, будто расправы за совершённое боялся пуще огня. Наконец он впригибочку выметнулся из дымовой завесы, и вид его был ужасен. Жора горел со всех сторон бегущими всполохами, веки были опалены начисто, отчего глаза казались зверино-огромными, как у негра, сбежавшего с куклусклановского креста; руки почернели и кровоточили; а в зубах тлел свёрнутый из газеты кляп.
— Господи! Он беспалым остался! — завизжала Семёновна. — Руки… гляньте! Руки!!
— А пошла ты! — прохрипел Касьянов, кляп сплёвывая и в снежное крошево боком валясь. — Пять… пять тысяч какими руками сработаешь!?
И, корчась от боли, на локтях пополз к снежной яме, чтобы руки-огарки туда окунуть, погасить страдания.
— Это он тысячи свои дербентские спас, — определил Тимур с содроганием.
— А рукопись? Моя рукопись!? — вскричал Иван.
— Поздно, — поёжился трус и пальцем в крайнее, покамест целое окно показал. — Там… на кухне… под корытом.
Иван не мешкая скинул пальто, окунул его в снежную жижу, вновь на себя набросил и ринулся как безумный к окошку.
— Сгоришь, мудак! Там пусто… водка кончилась! — остановительно заорал Витёк, пожаром не протрезвлённый, как стало бы, а вконец запьяневший.
Иван и слышать ничего не хотел. Сцепивши руки «замком», он выбил раму таранным локтём, переждал хлынувший из дыры дым и гимнастическим скоком сиганул в окно. Едкий смрад ударил его под дых. Отделённая гнилой перегородкой кухня ещё не успела заняться пламенем, но с потолочной балки — пожар ширился верхом — уже летели кусачие, красные шмели. В чаду и темени Иван ощупью нашёл висевшее на гвозде корыто, извлёк оттуда заветную папку, швырнул в пролом, а сам уже в полуобмороке, с дымными волосами и отравой в лёгких, кулем вывалился с подоконника.
На воле ему стало ещё хуже. В голове началась какая-то карусель. Небо над ним покачивалось, и с высоты, как из дырявого кошелька, сыпались жёлтые лунные монеты. А на расплывчатой земле, выглядывая себе падучую звезду в пропитание, одиноко выл закопчённый пёс.
Очнувшись, Иван сообразил, что это Касьянов предсмертно воет.
Дымные в жгучих искрах пики уже проломили крышу барака, дали пожару простор. Зарево кинулось в небо, высветлив соседнюю новостройку и башенный кран с транспарантом
АША ЦЕЛЬ — КОМ ИЗМ! Ы ПО ЕДИМ!
Горемычный Витёк слезящимися глазами выглядывал недостающее и плевался, будто не лозунгу, а ему лично выбили через один зубы.
Нетерпеливой рукой, в желании знать, все ли страницы целы, Иван рванул тесёмочки бурой, стандартной папки «Для бумаг», и обомлел. Страниц достаточно поубавилось, а на титульном, со следами пальцев, листе значилось непонятное «ГОМО ПОПУПС»…
— Что!?.. Что это такое?! — в ярости сунул он папку под нюхалку негодяю Тимуру.
И без того достаточный нос Дедули удлинился, а щёки ввалились.
— Витёк! — заорал он истошным голосом. — Ты что, гадина, понаделал?!
— Я?? То не я, — показал пальцем на попорченный транспарант Витёк, пошевелил осколками и спесиво добавил: — Ничего-ничего, в Будущем ни дождей, ни пожаров не будет…
К ночи Москва расплакалась, потекла. Пожар на Нижней Пахомовке повысил температуру в городе градуса на три-четыре. И в этом нет ничего курьёзного. Москва необычайно флюидна, повязана цепкими нитями. И в ту минуту, когда на задыхавшегося Ивана лунные монеты обрушились, на столе дежурной по этажу гостиницы «Интурист» Джуванешевой обнаружился золотой фунт английской чеканки. Но ещё раньше того, когда Иван ни с чем из окна выпрыгнул и подвернул ногу, совсем уже на другом конце Москвы, в тишайшем, как бы нарочно созданном для арестов Зоологическом переулке муж Джуванешевой, доктор Безухов вдруг почувствовал облегчение и даже желание исполнить супружеский долг.
Последние двое суток Кимоно Петрович Безухов пребывал в опупении, именуемом среди учёных прострацией. Когда звонили в дверь, он бежал к телефону, а среди ночи вскакивал, бормотал «Это сон, это Фрейд!», лихорадочно раскрывал бурую папку и, всякий раз находя там вместо «Попупса» чёрте что, насвежо изумлялся и заламывал руки:
— Наследственное проклятие! Я отроду невезучий…
Кимоно Петрович ничуть не кокетничал. Оно и впрямь — его темным, ослеплённым пламенем Октября родителям лучше было бы дать сыну-первенцу имя Пьер, или Робеспьер. Но время было горячее, с претензиями на мировой пожар, и маленькому Безухову в честь Коммунистического Интернационала Молодежи Новгорода дали пожизненно Кимоно. Восторженные новгородские родители мало что пронадеялись на отмену паспортов и границ, но и не учли силу советского патриотизма. И когда во время конфликта на КВЖД сверстники устроили Кимоно тёмную, искривили ему правый глаз, родители не образумились, посчитали взбучку случайной.
Левый глаз несчастному Кимоно перекосили в разгар наступления самураев на озеро Хасан, и достигнутая таким образом симметрия сделала его настолько не нашим, настолько подозрительным, что имя ему уже хочешь-не хочешь сократили до расхожего Ким. И приключилась другая крайность. Дружбонародная. Университетская. Конкурс был ужасающим. Однако на биофаке сохранилась азиатская квота. Туда, с учётом внешности-имени, Киму и присоветовали, чтобы экзамены дуриком проскочить. В неразберихе, собственно, он и просочился. А через пять лет заступил на службу в Институт контрагенетики, ставший вскорости Центром генетики и цитологии, что никого не смутило, прошло незамеченным из принципа — не важна работа, важен результат, то есть Ленинская премия со всеми вытекающими из неё приятностями вплоть до права закладывать в спорах два пальца в жилетку и картавить огульно: — Вы, батенька, дегенегат, генегат, науку не делают в белых пегчатках!..
К тому времени подоспели дружеские контакты с вражеским окружением. И доктор Безухов тихонечко, с оглядкой на Курильские острова, вернулся к полному имени. Главной причиной тому была жена. Она добавила к Кимоно приставку «сан», да и себя переделала для гостей из Джуванешевой в Джу Ван, увешала квартиру циновками и, вообще, ояпонила быт, начиная рисовыми палочками и кончая магнитофоном «Сони», оглушительного своей ценой.
Неудачные крестины снова дорого обходились Кимоно Петровичу. И поскольку конечной мечтой Джу Ван был японский автомобильчик, вопрос о Ленинской премии стоял в семье необычайно остро. А само название премии требовало от Петровича произвести в науке переворот.
Всесезонная муха дрозофила, надо сказать, в Центре генетики была окончательно заезжена и обсосана. Её по лапкам в диссертации растаскали. И Кимоно Петрович измучился, исхудал в поисках отправной точки. Но вот однажды перед Новым годом Джу Ван явилась из магазина с праздничной, по профессорскому талону подачкой и швырнула на кухонный стол птицу, похожую на конскую ногу.
— Полюбуйся, — сказала она отдышливо. — В ней четырнадцать килограмм. Её насильно скрестили со страусом и до смерти рыбной мукой закормили… Да-да, понюхай!
На скрюченной как после пытки морозом птице бугром вздымался живот с клеймом комбината «Красная путина». Тиной от неё действительно припахивало, как от утопленницы.
— Между прочим, в Америке, — продолжала Джу Ван, — к Рождеству кормят индеек орехами и нарочно рост замедляют, чтобы целой, а не лохмотьями к столу подавать.
— Что? Как ты сказала!? — неуместно оживился Безухов.
— Я говорю, лауреатов таким дерьмом не кормят, — мстительно подковырнула Джу Ван, чего натуральная японка никогда бы себе не позволила. — Ленинцам парную курицу дали, сталинистам — кило сельдей, банку хрена и…
— Джу! — остановил жену мановением руки Кимоно Петрович, и в голосе его было нечто торжественное. — Умница моя ненаглядная, Джу! Мы не будем больше кормиться падалью. Ты открыла мне путь к таким горизонтам, — ткнул он зачем-то в птицу-страуса и руками всплеснул, — к таким вершинам, к таким высотам…
И понёс нечто из «Происхождения семьи, частной собственности и государства», увязывая это каким-то образом с решениями XXI съезда партии и приговаривая утвердительно, возбужденно: