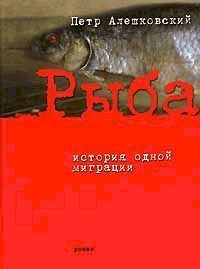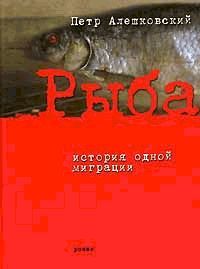— Он должен выспаться, утром капельницу надо повторить. Спать он будет долго. Советую вызвать врача. Кто его наблюдает?
— Есть один пилюлькин, просто не успел бы доехать. Я застремалась, он в навязке, вены вскрыл, мне сначала показалось, что глубоко, — кровь как брызнет!
— Что значит «в навязке»?
— Страх. Когда посидишь с недельку, приходит. Все вроде бы хорошо, по кайфу, весело, кумарно, и вдруг где-то внутри появляется червячок. Сначала ты боишься чего-то неконкретного. Просто страх, страх сам по себе… Он появляется внутри твоего тела, существует как бы приступами: то нахлынет, то отпустит. Причем каждый раз, когда снова приходит, он все сильнее, словно растет внутри тебя. Растет до тех пор, пока не появляется «маничка». Кажется, что кто-то замыслил против тебя зло. Тошка меня в этот раз просто изнасиловал, хорошо, не душил.
— Как?
— Элементарно. Скрутил и трахнул жестоко, он под кайфом сильный, как бык. Вообще-то я его таким люблю, но тут был перебор: я поняла, что у него крыша поехала. Меня не узнавал, звал Светкой — это жена, которая его бросила. Я кричать начала, думала оттает. Очнулся, прощения попросил. И опять в страхи. Вбил в голову, что голуби за ним следят. Сам их прикармливал, крошки на козырек под окном кидал. Убежал, где-то прятался, ночью приполз — ночью птицы не летают. Принял дозу, и его поперло.
— Стал резать себя скальпелем?
— Я видела, как по полруки сносили — боли же нет, только страх лопнуть и облегчение, когда кровь потечет. Я сама не поролась, но видала. А хочешь — тараканов гонять? Они под кожей поселяются, воняют, как гной или говно, жрут тебя изнутри, размножаются. В прошлый раз он ноги колол, чтобы их выпустить, — три часа в ванне столбом простоял, чтобы они вниз стекли и разбежались. Улет полный!
Она вдруг рассмеялась.
— Такие пироги… Не знала?
— Знать не хочу. Сдай его завтра врачу, а лучше в больницу, он на пределе, поверь мне.
— Еще нет. — Она вздохнула. — В больничку нельзя, закатают надолго. Сам отойдет, завтра будет, как тряпка. Ты приди, проколи его еще денек-другой, чтоб он проспался и не вставал. Поколешь, я денег дам.
— Я не врач, не могу взять на себя ответственность.
— Ну и на том спасибо. Значит, надо Черепу кланяться, он вызовет доктора.
— Ты сама-то как, ведь ты тоже…
— Я покурила маленько, мне сейчас скатываться нельзя, да и не хочется, если честно. Когда он в навязках, я должна быть, как пионер-герой Валя Котик, — всегда готов!
Она начала засыпать прямо на глазах, речь ее стала бессвязной, она с трудом поддерживала беседу. Я отвела ее в комнату, уложила на диван.
— Спсибо, буду должна. — И она отключилась.
Я накрыла ее махровым халатом — в квартире почти не было вещей: колченогий стол, разбитые, стянутые скотчем стулья, какие-то тряпки у стены — нестиранное белье, и ушла, притворив дверь.
Рассказанного и увиденного было достаточно, чтобы лишить меня сна. Я легла в кровать и долго лежала в темноте, смотрела в потолок.
Вспомнилась наша улица в Пенджикенте — поздний вечер, тишина вдруг взрывается дикими криками, грохотом разлетающегося стекла, треском крушащейся оконной рамы. Со второго этажа геологического барака, что напротив нашего дома, вылетает Костя Мурад — бич, геологический сезонный рабочий. Я, девочка, смотрю на все из-за занавески — крики напугали меня, я почти уснула, но вот случился очередной дебош, я вскочила и уже стою у окна.
Костя долго лежит без движения. Наконец, как в замедленном кино, начинает шевелиться, встает на четвереньки, оглядывается, соображает, где он и как сюда попал. Ощупывает себя, вытирает лицо, руки его в крови, вероятно, он порезался, пробив головой окно. Из подъезда общежития выходит его вечный собутыльник Рауф по кличке «Хромой» — сломанная нога неправильно срослась, он заметно подволакивает ее.
Кругом темень, окна в общаге даже не зажглись. К таким разбирательствам здесь привыкли… Кажется, я одна подглядываю за ними. Два приятеля перебираются к единственному фонарю на улице, причем Костя ползет на карачках, как зверь, — сил встать на ноги у него, похоже, нет. Хромой стоит над другом, ощупывает его голову.
Они что-то обсуждают, громко матерятся, машут руками в сторону общаги. Рауф отходит к колонке, снимает с себя рубаху, мочит ее в струе воды, возвращается, заботливо обтирает лицо раненого товарища.
Тот еще не вполне в себе, хлопает глазами, как после контузии.
Наконец, кровь смыта. Друзья располагаются прямо под фонарем.
Рауф достает папиросу, набивает ее планом, закуривает, затягивается, передает товарищу. Покурив, они впадают в оцепенение — Хромой опускает обессилевшую голову на плечо раненого Кости. Теперь тот поддерживает Рауфа, сам при этом занимается важнейшим делом — принимается быстро-быстро расчесывать свои колени, словно их накусали рыжие муравьи. Наконец и этот процесс завершен, оба немного приходят в себя и поворачивают тяжелые головы, смотрят так, словно увидели друг друга впервые. Дальше все происходит молниеносно: оба кричат, Хромой бьет Костю в лицо кулаком, Костя выхватывает нож и вонзает его в бок своего неразлучного друга. Улица опять взрывается криком — кричат теперь со всех сторон, к фонарю бегут какие-то мужики. У Мурада отнимают нож, связывают его поясным ремнем.
Откуда-то выныривают «скорая» и милицейская машина.
Последнее, что я вижу, — детское, улыбающееся лицо убийцы: он смеется, что-то бормочет себе под нос, садясь в «воронок». «Скорая» увозит Хромого, который выживет и долго еще будет бродить по городу в поисках приработка и кайфа, пока его не найдут утонувшим в холодном февральском арыке…
Из глубины квартиры появляется мама, укладывает меня спать, делает из одеяла конверт, сидит со мной, тихо гладит по голове.
— Спи, Верунчик, забудь, плохие дядьки подрались — это план, он лишает людей разума, делает их рабами травы.
…Я вспоминаю, я много о чем вспоминаю в ту ночь. Воспоминания лишают меня воли к сопротивлению — прошлое стоит перед глазами, с силой вжимает в матрас, я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой.
Образы, слова, запахи, звуки вспыхивают в сознании и уходят в тень, замещаются другими. Это похоже на погружение в океан, только мир, который заливает меня до самых глубин души, совсем не похож на красоты, что показывают по телевизору, — он прямой и твердый, как чугунный штырь, пригвоздивший Насрулло. Оказывается, он всегда со мной, вот только зачем? Ночь бесконечна для мыслей, которые не могут мечтать об утреннем солнце.
7
Утром меня разбудил звонок в дверь. Ожидая продолжения ночной истории, я быстро накинула халат и бросилась открывать. Каково же было мое удивление — за дверью стоял Марк Григорьевич. Он, оказывается, летел с австралийских гастролей и решил завернуть в Москву, сделать нам сюрприз.
Пока он мылся и готовил завтрак, я занималась бабушкой. Процедуры, овощное пюре и сок она приняла, как королева, встречающая иноземного посла некрупного государства, всем видом выражая свое превосходство и скуку от надоевшей церемонии.
После завтрака Марк Григорьевич вдруг спросил:
— Ты сейчас в аптеку и по магазинам?
— Как обычно, Марк Григорьевич.
— Погуляй, пожалуйста, часика три и возвращайся к двенадцати. — Он густо покраснел. — Ко мне должна придти ученица, не хочу, чтобы нам мешали.
Аптека была в соседнем доме, магазины тоже, сидеть внизу у Петровны не хотелось, я решила заглянуть в восемьдесят четвертую. Антон еще спал, Юлька же, наоборот, сгоняла в аптеку, купила гемодез и реланиум и, по ее заверению, уже собиралась стучаться ко мне.
Встретила меня, как старую знакомую.
— Здорово, я была уверена, что ты придешь!
— Почему так?
— Ты простая, я носом чую, кто чем пахнет.
— Хитришь, врача не хочешь вызывать?
— Врача не хочу, а насчет тебя — правда.
— Твое счастье, приехал хозяин и выставил меня за дверь — будет заниматься с перспективной ученицей.
— Ну! Поняла?
— Что я должна понять?
— Думаешь, Моцарта будут играть? Трахаться она к нему ходит — ты их вместе видела? За ручку держатся, когда в лифт садятся.
— Это дела не касается, пойдем к Антону.
— Всех касается, люди должны больше трахаться, как кролики, если бы секса не было, мы б давно вымерли от одиночества. Вера! — Она заискивающе посмотрела мне в глаза. — Мне твой Марк Григорьевич нравится, он живой, и ты живая, я тебе сразу поверила.
— Веришь, — вызови врача. Вчерашнее обязательно повторится.
— Ага, вызову. Я понимаю, ты только его уколи, ему сейчас просыпаться ни к чему.
В капельнице и снотворном никакой беды не было, я сдалась. Кое-как мы его растолкали, Юлька повела его в туалет. Антон был бледен и плохо ориентировался в пространстве — без поддержки он бы до кровати не дошел. Увидел меня, долго силился, вспоминал, но вспомнил, что было ночью.