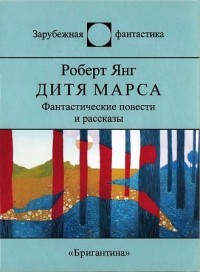Опять не успел! Как и годы спустя с тем разговором…
Мать быстро затушила окурок о консервную банку из-под сгущёнки, прибитую к дереву, туда же запихнула его и, вернувшись к столу, вновь стала громогласно и агрессивно смеяться.
Лебедев почувствовал себя неловко.
Вечером совершенно неожиданно проводить Ивана и его мать до электрички вызвался сам хозяин дома – тот самый престарелый известный писатель со сросшимися на переносице бровями, оказавшийся вовсе даже и не таким угрюмым, как показалось на первый взгляд. Он сам сел за руль «Волги» с оленем на капоте, и они поехали через весь посёлок, мимо кладбища и дачи патриарха к платформе «Переделкино». Всю дорогу он рассказывал смешные истории про писателей, с которыми уже очень много лет имел дело. А перед самым расставанием он вдруг повернулся к матери и сказал:
– Вот вы всё-таки зря пепел в консервную банку сбрасывали, это рабочие оставили, когда забор меняли, а у меня есть отличные чешские хрустальные пепельницы. – Помолчал и добавил: – Милый у вас мальчик.
… – Какая же милая Мариночка Неёлова! – были первые слова матери, когда она вернулась домой после просмотра спектакля «НЛО» в «Современнике».
О разговоре же с сыном накануне этого спектакля не было сказано ни слова.
Костёр на «горке» постепенно догорал, потрескивал, переливался плавающими свекольными огнями, а когда в него попадали брызги дождя, то начинал шипеть, исходить струями пара и плеваться.
– Лебедь, а ты что в раздевалке-то делал? – сплюнув и не отрывая взгляд от надписей на столе, задумчиво спросил Тихомиров.
– Просто сидел.
– А вот это тоже я написал:
Всё может быть, всё может статься!
С женою может муж расстаться!
Мы можем бросить пить, курить,
Но чтоб «Торпедо» позабыть…
Нет, не могёт такого быть!
– Да ты поэт, – улыбнулся Лебедев.
– А вот ещё послушай:
«Торпедо» – это сила!
«Торпедо» – это класс!
«Торпедо» – это Эдик!
А Эдик – это ас!
– А кто такой Эдик?
Лицо Костика мгновенно потемнело:
– Ты чё, Лебедь, совсем обалдел? Эдуард Стрельцов!
– А‑а, ну да. – Иван сделал вид, что знает, кто это такой, хотя фамилию он, конечно, слышал. От того же Тихомирова и слышал, наверное, раньше.
– То-то, – Торпедо по-отечески похлопал Лебедева по плечу. – Думаю, тоже тут это написать надо для потомков.
– Ладно, пойду я, поздно уже, мать волноваться будет.
– Вот это правильно, Лебедь, мать не должна волноваться, это отец пусть волнуется, а мать нет!
– Это почему? – Иван уже вышел из-под навеса, но после этих слов не мог не остановиться.
– Тут моего Акула вызывала, застукала меня под лестницей, стерва, ну, я перекуривал, ну, буквально пару затяжек. – Костик покачал головой, как человек, глубоко уставший от бесконечных и однообразных претензий к его персоне. – Так он меня дома чуть не убил.
– Как это? – поморщился Лебедев: дождь постепенно начал заливать за воротник куртки.
– Просто, – Торпедо выставил вперёд свой здоровенный кулак, – кулаком.
– Сурово.
– А ты говоришь. – Тихомиров глубоко вздохнул. – А мать меня зато потом пожалела, хотя и отец прав, если честно, но всё же нельзя так со своими родными детьми, мы ж всё-таки цветы жизни как-никак… Ну бывай, Лебедь.
Иван сделал несколько шагов от навеса и буквально сразу провалился в непроглядный мрак промозглого осеннего вечера.
Очертания пустыря можно было разобрать лишь по далёким огням на железной дороге, лаю собак, которые охраняли гаражи за бетонным забором, и свету в окнах домов, что мерцали в дождливой дымке конца октября.
Пройдя метров десять, не более, Лебедев остановился в ожидании, когда глаза привыкнут к темноте. Он хорошо знал это состояние, помнил его, когда они летом вместе с матерью ездили на море в Орджоникидзе, выходили из кинотеатра, какое-то время стояли и привыкали к непроглядной темноте, а потом брели в сторону торпедного завода, где снимали клетушку с видом на мыс Киик-Атлама.
Это была их единственная совместная поездка, когда Иван чувствовал, что не раздражает свою мать, что всё делает правильно, впрочем, постоянно находясь при этом на грани внутреннего трепета, волнения, что вдруг он перейдёт какую-то неведомую ему грань и всё опять начнётся по-прежнему. Но нет, получалось, что неведомой грани то ли не существовало, то ли мать великодушно отодвигала её всё дальше и дальше, и это вселяло надежду на то, что так будет всегда, если это возможно в принципе.
Наконец «горка» обступила Лебедева со всех сторон, проявилась длинными блёклыми тенями, что едва прочерчивали навалы мусора, ямы, сваленные в беспорядке стройматериалы, лысые автомобильные покрышки, и стало возможным идти.
Быстро идти.
Иван представил себе, что его ждёт дома, и ускорил шаг, почти побежал.
Так было легче гнать от себя мысли, думать о том, что вообще не следует думать, а усилившийся ветер и шум дождя напрочь лишили эту круговерть всякого смысла. Может быть, именно поэтому в голове неожиданно всплыли слова Мурзищевой – «вот чем ты отличаешься от них», а вместо глаз у Акулы при этом вращались круглые тигровые бусины.
Бусы тут же и покатились по земле, по скисшей от дождя траве, по песку, по ступеням, по паркету, по кафельному полу и пропали в заросшей колючим проволочным кустарником траншее, а ржавая проволока намертво свила правую ногу, и Лебедев полетел куда-то вниз в темноту преисподней.
Вот только и успел сообразить, что нет такой силы, которая могла бы освободить правую толчковую, а скос траншеи, ощетинившейся битым кирпичом и осколками бутылок, стремительно ринулся прямо в лицо, как цепная собака.
И это уже потом был травмпункт на Беговой, затем Боткинская, несколько швов на лбу и верхней губе, а также гипс левой кисти, на которую пришёлся основной удар.
Домой вернулись далеко за полночь…
Не говоря ни единого слова, мать уложила Ивана, выключила в комнате свет, села рядом, и было слышно только, как дождь без остановки барабанит по карнизу. Это её молчание говорило много больше, чем все предыдущие речи, вместе взятые, при этом оно не тяготило, не придавливало, не томило.
Лишь спустя годы, когда матери не стало, Лебедев понял, что она в тот момент, видимо, тоже слушала его молчание, молчание своего сына, и находила его содержательным, заслуживающим уважения, ведь, если честно, вместе они многое прошли и многое знали друг о друге.
Через две недели Ивана выписали.
На перемене к нему подошёл Торпедо:
– Что ж ты, Лебедь, левую руку сломал, надо было правую ломать, в пятницу контра по алгебре, придётся писать.
– Придётся, Торпедо, придётся, – улыбнулся в ответ Лебедев.
– «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», жду на «горке»! – Тихомиров нырнул в гудящий, орущий, извивающийся дерущимися младшеклассниками школьный коридор, который то заходился в какофонии нечленораздельных звуков, то затихал, словно набирал в лёгкие воздух, чтобы вновь открыть рот и завопить.
– А я знала, Лебедев, что добром это не кончится…
Иван обернулся – перед ним стояла Акула, сомнамбулически поводя подбородком.
– Ты же взрослый человек, – заученным жестом Мурзищева поправила бусы на груди. – Вот чем ты отличаешься от них? – и она указала на третьеклассников, которые с хохотом катались по паркету, то ли дрались, то ли просто сходили с ума от избытка чувств. – Да ничем!
Лебедев усмехнулся, и вовсе не потому, что тигровый глаз ему показался на сей раз каким-то блёклым и подслеповатым, а потому, как он подумал в ту минуту, что его мать, наверное, не согласилась бы с этим утверждением.