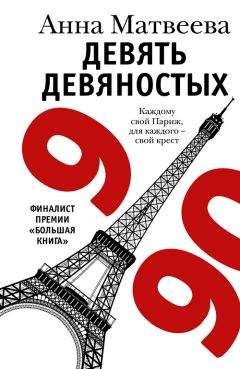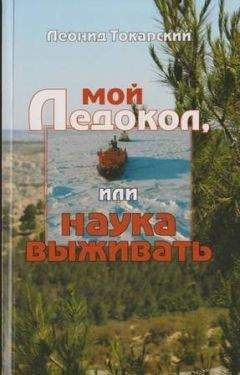Ознакомительная версия.
Вот еще открытие — какой же маленький город! Можно за день обойти, и не устанешь.
Вот башня Монпарнас — как будто циклопический телевизионный пульт торчит посреди «рив гош». Женечка называет пульт «лентяйкой». Мама называет лентяйкой Аду — и еще, разумеется, швабру, в которую вправляют тряпку. Пульт-башню мог забыть в Париже великан-телезритель. Вторая его игрушка — Башня Стефана Совестра, истинного, как считают некоторые, создателя la tour Eiffel.
На Башню группа взбиралась, когда уже вечерело — тихо загорался их первый парижский закат. Красавица-башня с ног до головы в кружевах — Ада, глядя на нее, вспомнила Каслинский чугунный павильон. На ногах стоит крепко — не сдвинешь. От пяток до макушки выкрашена в бледно-коричневый цвет — как столовский бочковой кофе, и вся усыпана круглыми заклепками — вроде бы это у нее пупырышки от холода, мерзнет на ветру. Такие же точно заклепки-мурашки Ада будет находить потом по всему Парижу — и в Орсэ, и на Лионском вокзале, и в старых ресторанах, и даже в переходах метро. «Эльфова башня!» — восторженно выдыхает русский малыш из чужой группы.
И на Париж сверху Ада будет смотреть впоследствии с самых разных точек и крыш — но никогда свысока. Она будет смотреть на Париж снизу — из катакомб, жмурясь перед улыбчивыми черепами, один из которых вполне мог принадлежать Марату, а другой — Шарлю Перро. А главное, она будет смотреть изнутри, ведь настоящее чувство всегда имеет в виду соединение и растворение.
Ада хотела бы раствориться в Париже — ложечкой сахара в кофейной чашке вон того месье. Растопыренной ладошкой осеннего листка прилипнуть к стеклу машины на бульваре. Украсть у горничной форменное платье и выйти на работу в ближайший mardi.
— Что такое mardi? — раздраженно спрашивает Елена всю группу разом. Ада, забыв о том, что рядом Татиана, на автомате переводит: вторник.
— То есть мы не попадем в Лувр? Здесь сказано, что по вторникам — закрыто!
Елена всячески подчеркивала, что хочет в Лувр, и вот, пожалуйте! Во вторник утром они уезжают. Но, будьте покойны, Елена этого так не оставит, она пожалуется кое-кому в Омске. Она вообще может сделать так, что никто из Омска больше в Париж не приедет!
— Ну, Париж это как-нибудь переживет! — сказала Татиана, и Ада впервые за эти три дня увидела, какая она симпатичная женщина.
Жаль, что придется поступить с ней так несимпатично.
Автобус номер восемьдесят пять спускается с Монмартрского холма и едет с правого берега на левый, до Люксембургского сада. «То берег левый нужен им, то берег пра-авый!» — пела Алла Пугачева за стеной у соседей, в Екатеринбурге.
Автобус номер сорок один останавливается на углу Хохрякова и Ленина, но остановка называется «Площадь 1905 года». Маленькая Ада считала, что эта площадь названа в честь нее — ей шел пятый год.
Ровно пять… нет, не лет, а дней прошло с того октябрьского утра, когда группа российских туристов уселась в автобус и отбыла восвояси.
Ада не видела, как это происходило. Слонялась по левому берегу.
Наверное, Роза и Лиля до последнего не верили, что Ада «спрыгнула», уговаривали Татиану подождать — ну хотя бы немножко. Потом, скорее всего, пришла Елена с известием, что в комнате Ады и след простыл — все вещи исчезли, включая зубную щетку. Людмила Герасимовна наверняка молилась и крестилась, а Татиана раздраженно звонила кому-то из лобби.
Ада старалась об этом не думать. Может, и не так всё было.
В конце концов, все они для нее — чужие люди. Попутчики. Елена — та вообще пусть скорее забудется, как страшный сон, какие снятся под самое утро.
С людьми родными — вот с ними что было делать? Как им это объяснить?
Ада позвонила папе утром, из телефонной будки рядом с хостелом, где она сняла в общей комнате койку. Хостел — у подножья великанского телевизионного пульта, башни Монпарнас.
Звонила на работу и попала некстати.
— Ада, ты уже в Москве? — спросил папа. Рядом с ним кто-то громко бурчал, наверное, коллега Петрович.
— Папа, я осталась в Париже! — крикнула Ада. Дерево, под которым стояла будка, зашелестело листьями — как будто книга на ветру. — Ты не волнуйся, у меня всё будет хорошо!
Она как могла быстро повесила трубку на рычаги — но всё равно успела услышать, как папа кричит за пять тысяч километров.
Ада вышла из будки, обняла дерево:
Я здесь одна. К стволу каштана
Прильнуть так сладко голове!
Потом она вернулась к телефону, набрала домашний номер Олени, но там ныли длинные гудки. Почему-то Ада увидела эти гудки как длинные холодные рельсы.
Кто-то шел мимо и свистел — их с папой свистом.
С тех пор прошло целых пять дней, и они тоже были длинные и холодные.
Ада еще несколько раз звонила Олени, но всё время попадала на рельсы. Просто какая-то Анна Каренина, а не Ада Морозова.
Вообще она всегда хотела быть Анной.
Ада — это папина идея.
— Зачем ты меня так назвал? — спросила его однажды в слезах, когда мальчишки задразнили чуть не до икоты. Папа в ответ поцеловал ей ручку, как взрослой женщине, — маленькая Ада от этого еще сильнее заплакала.
— Это спрос, — сказал папа. — А кто спросит — тому в нос.
Ушел в спальню и закрыл дверь.
Потом уже значительно более взрослой Аде объяснила мама: так звали девушку, которую папа любил в юности. Девушка уехала жить куда-то за границу, но папа успел дать обещание, что назовет дочку в ее честь.
— Обещания нужно сдерживать, — сказала мама и сжала губы, как будто на самом деле она так не считала. Мама хотела назвать дочку Анечкой.
— А куда именно уехала та девушка? — спросила значительно более взрослая, но все-таки еще очень глупая Ада, и мама тогда тоже ушла и закрыла дверь.
«Наверное, она уехала в Париж», — думала Ада, ворочаясь без сна на своей неуютной койке. Это вам не двухзвездочный отель «Жерандо». Общий туалет, противные запахи, клопиные пятна, зато цена, как сказала бы Олень, щадящая наши возможности.
Ничего, Ада здесь надолго не задержится. Скоро найдет себе работу, жилье, друзей.
Главное — она в Париже.
Хорошо, что Ада знала французский язык.
Что учила его, не брезгуя ни одной темой. Диакритические знаки. Тяжелое ударение. Глубокое придыхание.
Французский язык — это был уже не инструмент, а универсальный ключ, который подходит ко всем дверям.
Жаль, что двери открывались только для общения, а не для работы.
В Париже никто особенно не мечтал принимать на работу Аду. В одном лишь ресторанчике, недалеко от ворот Сен-Дени, предложили взять посудомойкой, но она не пошла — у хозяина глаза светились жирным блеском, когда он расписывал условия. Он почти всю Аду целиком глазами съел, этот пузатый мужчина. Да, поневоле вспомнишь добрым словом Женечку. (И долг свой, кстати, тоже. Она всё отдаст, до цента, до копейки.)
Париж следил за Адой, наблюдал ее попытки пустить корни — с любопытством, но без сочувствия. Ада по-прежнему смотрела по сторонам, когда шла по городу, — но видела теперь не только пыльных атлантов. Начинала замечать клошаров и объявления с вакансиями.
В один из первых же дней Ада продала на барахолке — «пюс», как она здесь называется, — свой красный свингер. Дали, конечно, совсем немного, но на вырученные деньги Ада купила здесь же неприметную теплую куртку (по-французски — «дудун»), черную, как ночная Сена. В кармане куртки нашлись два нетронутых билетика на метро — Ада решила, что это хороший знак.
Потом — сережки. В брассери к ней как-то подошла официантка, русская — Ада безошибочно распознавала родной акцент — и спросила, не хочет ли она продать камни? Сережки подарила мама к восемнадцатилетию, но Аде они никогда особенно не нравились. Наверное, продала не очень выгодно — но всё же это были деньги, а ее запасы рано или поздно кончатся. В уши воткнула пластмассовые пуссеты-розочки, давний подарок Олени. Чтобы дырки не зарастали.
Олень ответила на звонок только в конце второй недели, когда Ада уже почти что отчаялась найти работу. Жила всё в том же хостеле — и рассчитывала, что денег ей хватит до Нового года, если питаться один раз в день, как она обычно и делала.
На самом деле еды в большом и радостном Париже — вдоволь, надо просто не зевать и смотреть по сторонам.
Вот, например, ребенок не доел булочку и положил на краешек скамейки.
Или в «Макдоналдсе» часто оставляют картошку фри в пакетах.
С вопросом личной брезгливости замечательно расправляется чувство голода.
Олень схватила трубку после первого же гудка, не успевшего превратиться в рельс.
— Адка! Ты где?
— В Париже!
— Ну ты вообще! Я не верила, что ты всерьез там останешься!
Ознакомительная версия.