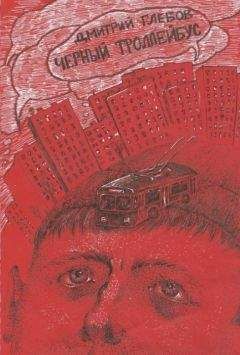— У меня небольшая проблема, — сказала она неохотно.
— Поссорились со своим бой-френдом?
— Пока я была здесь, я потеряла работу.
— Ах да, кризис в России. У нас тоже бывают кризисы.
— Я не хочу возвращаться домой.
— Какие вы знаете еще языки? — спросил он хрипло, боясь вспугнуть удачу.
— Английский, испанский.
— Мне нужна переводчица с испанского. Вам никогда не приходилось работать переводчицей, сеньорита? — Он смешно исковеркал последнее слово.
Она посмотрела на него надменно, и он подумал, что добьется своего, чего бы это ни стоило.
— Это чисто деловое предложение, мадемуазель.
Женщина неопределенно пожала плечами, и взгляд ее стал еще холоднее.
Анхель Ленин подошел к телефону и набрал номер, который дал ему человек в магазине восточных сладостей.
— У меня есть для вас работа, — сказал революционер негромко и грустно, выдергивая из сердца иезуитскую стрелу. Как странно устроена жизнь: за один день он нанял себе сразу двух служащих.
«Новый премьер-министр в России. Обострение ситуации в Косове. Движение „Талибан“ контролирует девяносто процентов территории Афганистана. Суд над чилийским диктатором Аугусто Пиночетом может не состояться. Взрыв церкви Иоанна Крестителя в Генте сорвал приезд понтифика в Бельгию».
Бенедиктов торопливо пробежал глазами строчки новостей. У него болели глаза. Он сидел перед экраном уже несколько месяцев подряд, исследовал разнообразные платные и бесплатные сайты, вращался в каких-то чатах, вступал в переписку с аматерами революции и антиимпериализма из Боготы, Веллингтона, Казани, Сиэттла, Тюмени, Чагодая, Калининграда, Купавны и Шанхая, зато теперь картина мирового сумасшествия была ему в общем виде ясна. Поразительная штука Интернет. Нечто вроде головы Карла Сикориса. Маленький чемоданчик, по которому в каюте американского военного корабля Бенедиктов следил за расстрелом русского парламента в девяносто третьем году и который Рей подарил ему в знак благодарности (а скорее всего с тайной мыслью, ибо Райносерос никогда ничего случайно не делал), за несколько лет из диковинной штуки превратился в рутину. Опять наступала революция — Господи, как они ему надоели, как хотелось их остановить, передохнуть от сумасшедшего движения дальтоников на красный свет, но еще более поражала его внутренняя связь явлений и предметов, точно кто-то занимался тем, что ткал и распускал ковер из одних и тех же нитей.
Вот и глобализация появилась на свет в те же годы и в том самом чикагском университете, который подготовил команду мальчиков, спасших чилийскую экономику от разрухи. Если верить Сикорису (хотя и был он великим мистификатором, но всегда подмешивал в свои байки толику правды и, хихикая, потирал ладошки, наблюдая за тем, как люди пытаются эту ложь выпарить, а правду оставить, да только и она улетучивалась), так вот, если ему верить, то в последнюю их встречу, когда папа Карл лежал на смертном одре и было невозможно представить, что сей жизнелюбивый до языческого обожания всего земного и плотского человек навсегда закроет глаза и отойдет, Сикорис преувеличенно слабым голосом стал уверять Бенедиктова, что глобалисты просто паразиты, они украли свою идею у масонов, хотя, возможно, и сами масоны продали ее глобалистам — как более могучей силе, пришедшей на смену вольным каменщикам.
Папа Карл, вероятно, не имел такой высокой степени посвящения, чтобы об этом компетентно и окончательно рассуждать, но интуиция у него была запредельная. А в конце концов не так уж и важно, кто и что у кого позаимствовал, скрипел Сикорис, одним глазом кося, как Бенедиктов разливает виски, а другим созерцая прошлое, — важно то, что первой крупной жертвой трансцендентальной аферы пал их общий знакомый Сальвадор Альенде Госсенс, вздумавший в самый неподходящий, переломный исторический момент национализировать чилийскую экономику, уже вовлеченную благодаря уникальным запасам селитры и меди и потаенному географическому положению в процесс глобализации как некий лабораторный проект, полигон будущего и его пусковой механизм, и с этой позабытой истории на краю земного шара должен был начаться новый цикл человеческого путешествия к концу. Никакие договоренности двух империй о разделе сфер влияния, так занимавшие паралингвиста Бенедиктова двадцать лет назад, когда он ходил по Вальпараисо и искал в порту советские подводные лодки, были здесь ни при чем, уверял папа Карл. Все было гораздо проще и сложнее, и, слушая его, Бенедиктов не мог отделаться от странного ощущения, что в обществе старика становится похожим на доверчивого юношу Петю Супова, которому заливает в тюремной камере байки умудренный, приговоренный к погибели человек, поглядывая, как действуют на слушателя и зрителя его находки.
— Дурака вы тогда сваляли. Надо было силой его оттуда тащить. Он нам бы очень теперь пригодился. — и эта нарочная или случайная проговорка Сикориса объясняла темное пятно в чилийской истории, смущавшей Ивана Андреевича, и давала ответ на незаданный, но подразумевавшийся вопрос: как могли вольные каменщики отдать на заклание своего высокого брата и ничего не сделать, чтобы его спасти.
— А это все уже было, голубчик, в веке осьмнадцатом, — рассказывал Сикорис, блестя вечно молодыми глазами. — Тогда к масонам много всякого сброда привалило, вот они и решили очиститься от балласта. До этого, сударь мой, степени посвящения были очень простые. Всего три — ученики, подмастерья и мастера. А потом один хитрый шотландец по фамилии Рамзай создал изощреннейшую иерархию с девяноста девятью степенями.
— Ну и что? — спросил Бенедиктов подозрительно, все еще пытаясь понять, говорит Сикорис правду ввиду смертного одра или врет как сивый мерин.
— А то, что это привело в конце концов к французской революции, событию куда более веселящему, чем октябрьские игры большевиков. Вот и теперь нечто подобное происходит. А началось все опять-таки в Чили, когда брата Сальвадора брат Аугусто в жертву принес и неслучайно именно одиннадцатого сентября, ибо покровителем масонов старых, друг мой, был не кто иной, как Иоанн Креститель, и оттого звали себя первые строители соломонова храма иоаннитами, а происходили они от монахов-бенедектинцев. Так что видите, все сходится в нашем с вами пасьянсе. Только, хочу вас огорчить, Иван Андреевич, — впервые обратился к нему Сикорис по имени-отчеству, усекновение честной главы Иоанна Крестителя произошло отнюдь не одиннадцатого сентября.
— То есть как это не одиннадцатого? — воскликнул Бенедиктов. — Вы шутите!
— Какие тут могут быть шутки, — пробормотал Сикорис, и голос у него вильнул, как напоровшаяся на сучок пила. — Предтечу казнили под Пасху примерно за год до распятия Христа. Следовательно, это произошло в конце февраля или начале марта. А отмечать день его смерти полгода спустя решили его ученики, люди, как вы помните, весьма непростые, ревнивые и по-своему ущемленные умалением их учителя и возвеличиванием Иисуса. Иные из них до такой степени были уязвлены, что посчитали Его самозванцем и ушли на реку Евфрат, где обитают и поныне.
— Значит, произошла ошибка? — пробормотал Бенедиктов.
— В таких вещах ошибок не бывает. Устанавливая календарь, отцы Церкви не стали менять число, названное учениками Иоанна, хотя даты многих праздников не раз переносились. По какой причине они так поступили, можно только гадать. Или же допустить, что день поминовения Крестителя был с самого начала выбран не случайно. Ученики Иоанна что-то знали и хотели на это что-то указать или предостеречь.
Бенедиктов изумленно вытаращился на своего наставника. В устах папы Карла все эти слова — «отцы Церкви», «Христос», «Креститель», «ученики» иначе как с издевкой никогда не звучали. А тут — тон заговорщика и едва ли не покаянные слезы на блеклых глазах.
— И еще одну вещь не забудьте, — добавил Сикорис скорбно. — Именно вторник почитается в Церкви как день поминовения Предтечи. Так что запомните, Бенедиктов: вторник, одиннадцатое сентября.
Он закрыл глаза и задремал, а Бенедиктов после этого разговора, когда Сикориса похоронили всем институтом, а потом поминали в каминном зале на Пречистенке и вопреки обычаям и приличиям всех времен и народов едва не передрались, споря, а не был ли покойный тем самым предателем и кротом, который изрыл империю и сокрушил орден советских паралингвистов, Бенедиктов, в том споре не участвовавший, хотя знал много больше других, часами над узорами месяцев и лет сидел и считал цифры. Умом он понимал, что скорее всего надурил его старик, в открытую и наглую посмеялся, спровоцировал и польстил, но в то же время и самое сокровенное выболтал, едва ли не покаялся, переложив в чужую голову невыносимое знание. И тогда впрямь стало ему казаться, будто ничего он не придумал и вовсе не дурачил Питера тюремной ночью одиннадцатого сентября семьдесят третьего года, а действительно опять сплясала на чьем-то дне рождении неведомая Саломея, вытребовала у слабовольного, но очень могущественного человека по наущению злой матери невинную и неуступчивую душу. И хотя болтливый и мягкотелый сибарит Чичо, застрелившийся из фидельева — вот с кем надо было точно разбираться, почему его так долго терпят и кому нужен этот непотопляемый авианосец у берегов Флориды — автомата, меньше всего мог быть уподоблен заключенному в темницу аскету и праведнику Иоанну, все же некий общий исторический алгоритм чудовищного заговора, расправы и беззакония здесь прослеживался, и еще неизвестно, чем все это кончится.