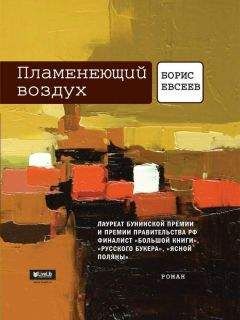Ознакомительная версия.
Но и это осталось позади.
27 ноября 1786 года опера «Новгородский богатырь Боеслаевич» придворной труппой на сцене Эрмитажного театра была представлена!
Певцами, оркестром и хором Фомин управлял сам.
Быстрым шагом и как всегда, чуть сутулясь, вышел он к оркестру. Оркестр сидел сбоку от сцены, почти впритирку к ней.
В руках у капельмейстера — скрыпка, смычок. Оборотясь, глянул он в зал, поднял скрыпку, выдержал паузу, отвел смычок в сторону, взмахнул им...
И побежала по креслам и скамьям, по всему Эрмитажному театру, залетая на чердаки, опускаясь в подвалы, никому доселе неведомая музыка!
Ре-мажорная увертюра выметнулась вверх легко, свободно.
Увертюра была простой. Для истонченного слуха — так даже и слегка подражательной, следующей италианским образцам. Однако слышалось в увертюре и русское веселье, далеким эхом отзывалась русская тоска.
Фомину, который, попутно с управлением оркестром, исполнял партию первой скрипки, казалось: чего-то этой наскоро выструганной увертюре недостает...
Тут же — и совсем не к месту, поперек музыки собственной — вспомнилась ему увертюра к глюковскому «Орфею». Отгоняя от себя звуки чужой увертюры, Евстигней вдруг понял, что не так, верней, чего в избытке в его собственной увертюре.
«Глюкова увертюра — как военная побудка. Будто тревога по фрунту пробежала... К Орфею, к его истории сия увертюра отношения имеет мало... О музыке самой оперы — тоже почти ничего не возвещает. А вот сама по себе — чудо как хороша. А у тебя, Есёк, увертюра слишком сильно за оперу цепляется. Сама же по себе — запоминаема слабо. Учесть сие... Учесть, исправить...»
Он давно выучился играть и думать, думать и играть. Ум его словно разделялся надвое. И одно другому ничуть не мешало.
Слышал он генеральское покряхтыванье и легкие дамские смешки в партере, слышал, как спустила нижняя струна «до» у одной из виолончелей, слышал биение собственной крови в шейной жиле, в том месте, где скрыпка прилегала к ключице. Но при всем при том — неотрывно следил за развертываньем музыки, верно указывал вступления оркестру...
Увертюра к «Боеслаевичу» была недлинной.
Что и не позволило мыслям о ней перейти в расстройство нервов.
«Надо бы еще увертюру укоротить... Да в самом конце — каверзу какую подвесить. Чтобы все от неожиданности ахнули...»
Увертюра кончилась. Начался первый акт. После вступительных тактов, слегка оборотясь, Фомин еще раз скользнул взглядом по залу.
Государыни императрицы все не было. Не бежал впереди чистый отрок, не взлетал на бегу, подобно ангелу Божию, на вершок по-над полами, не будил серебряным колокольцем спящих. Не выносились пока и предназначенные для высочайших посещений кресла. По рассказам людей знающих, кресла те выносились за минуту до появления императрицы, ставились прямо в партере.
«Как же особых мест для государыни не предусмотрели?.. Эх... Придет ли?.. Одобрит ли?»
Тут капельмейстер вновь перекинулся на оперу. Ведя за собой оркестр, заиграл на скрыпице.
Первый акт был задуман дерзко, неожиданно и начинался балетом.
Причем балет был привешен не сбоку, не был сторонним для оперы, а представлял собою кулачный бой. На сцене выгородили (и применимо к случаю украсили) новгородскую улицу Рогатицу. Прямо на ней Василий Боеслаевич тузил наседавших на него бородачей.
По краям сцены волновалась балетная чернь.
Тут в помощь Василию Боеслаевичу выскакивали Фома и Потанюшка. Всех дураков и дур гнали они с театра вон. Музыка ликовала, искрилась.
Здесь еще одна неожиданность: когда зрители уж попривыкли к веселой драчливости и ждали спокойно новых балетных вывертов, Фомин сделал паузу, и оживленную балетную музыку завершила мрачная, тяжелая кода.
Потрясение от той тяжести было велико! Он и сам не знал, отчего вдруг в сцене, где царствуют бодрость и воинственный дух, сперва в голове его зазвучал, а потом перенесен был на сцену — мрак, даже ужас.
«Драка — веселие русского народа. В драке — радость отлыниванья от забот, от дела», — думал капельмейстер.
Правда здесь и сейчас, в оперной драке, ему внезапно почуялось нечто жуткое, неразрешимое. Одобрят ли мрачноватое новшество зрители?..
Долго тянуть мрачную мелодию было невозможно.
Поэтому на сцену снова — по воле царственной либреттистки и давшего волю своим мечтам капельмейстера — выступил Василий Боеслаевич и бодро запел. Потом снова выбежали его друзья, Фома с Потанюшкой, и сперва поговорили, а затем спели вместе с Боеслаевичем трио. Быстро так и чудесно спели...
Далее шли два вокальных квартета. И оба в подвижном темпе.
Заключался первый акт дуэтом Василия Боеслаевича и любезной ему Умилы. Вслед за Умилой — опять неожиданность. После трех мажорных квартетов и трио — медленная печальная мелодия в простеньком ре-миноре. А уж после минора — конец первому акту...
Небольшой перерыв пошел Фомину на пользу. Краем рукава промокнул он пот, успел подстроить скрыпицу, мигнул флейтам-кларнетам, перекинулся парой-тройкой слов с виолончелями.
Занавес не опускали. Декорации слегка переменили, кое-что просто отодвинули в сторону, и на сцену снова высыпал, а потом застыл в нетерпении народ, ждущий пира в палатах Боеслаевича. Следовало начинать второй акт. И здесь…
Здесь чуткое Евстигнеево ухо уловило звон дальнего колокольчика.
Где-то рядом с театром (или уже по самому театру) бежал долгожданный отрок с несмолкаемой серебряной трелью в руке.
Сердце оборвалось и укатилось куда-то под кресла: императрица!
Фомин не знал — начинать или нет. Хотел повременить, хотел задержать начало второго акта, но, увидав, как напряглись музыканты, как тяжко им дается непредусмотренная пауза перед первым аккордом, — взмахнул смычком.
Балет был и в начале второго акта. Никакой разговорной дребедени! Всё скажут и выразят — музыка и пантомима.
Легкий шумок позади дал знать: матушка государыня, пожаловав ко второму акту, уселась в принесенные кресла, слушает, смотрит.
Руки капельмейстера дрогнули: «Ну, как собственных слов сразу она не обнаружит?.. Ну, как — не дождется произнесения заветных мыслей? Скорей, скорей! К монологу Боеслаевича! Его-то — не трогал. Богатырь обращается к бирючам теми самыми словами, что выведены были рукой государыни...»
Торопясь, Фомин скомкал конец балета: он непроизвольно ускорил темп, и весь оперный народец, алкавший пира, со сцены как ветром сдуло.
Дальше все припоминалось как в горячке: дуэт Амелфы и Умилы, дуэт Василия и Амелфы... Третий акт... В нем же номеров — семь. Снова вступление, опять хор гостей... После — трио: Сатко, первый посадник и Чудин. Затем еще трио и квинтет. Наконец дуэт Василия и Амелфы. Vivo, vivace, живо, живей!..
Только перед четвертым актом сердце встало на место, капельмейстер успокоился.
Предстояли сцены народного гнева.
«Идет сила новгородская, окружили посадники и люди новгородские широкий двор Василия Боеслаевича. Выбивают они широки вороты из пяты, валятся на широкий двор».
Из слов этих вылепилась преприятнейшая сцена — с балетной пантомимой, с хоровыми паденьями и взлетами, с непривычной, его самого удивившей, сотканной вроде из народных песен, а на самом деле полностью им сочиненной музыкой.
Тут был вершок оперы!
В ликовании капельмейстер стал тихонько разворачиваться к залу.
Хотелось, чтобы чувства, в нем бурлившие, передались зрителям, передались сидящей в зеленых чудных креслах государыне императрице.
Полуобернувшись, не прекращая игры и управления оперой, в сторону тех кресел он слегка и поклонился...
Креслы были пусты!
Матушка Екатерина покинула Эрмитажный театр, не дожидаясь окончания оперного спектакля.
Четвертый и пятый акт пролетели как во сне.
Опера завершалась торжественно. Однако даже мерно-величественная испанская чакона, каковую умело положил он в основание русского народного хора, дел не выправила. В зале, за спиной, вдруг открылась и черной пустотой медленно потянула вниз — пропасть.
Вспорхнул смешок. Жидко зааплодировали.
То был провал.
Глава двадцать восьмая После провала. Торжество просвещения
Откушано накануне вечером было немало, а более того — выпито. Голова гудела раскатисто: котлом, оркестровыми литаврами. Изо рта в нос узкими струйками залетал винный прогорклый дух. Вставать не хотелось, а надо было: близился полдень. Не открывая глаз, Александр Васильевич Храповицкий нашарил колокольчик, позвонил. В спальню величественно вступил камердинер.
— Подай памятную тетрадь. Да рази не видишь? Худо барину. Рассолу бы, что ли, принес, скотина...
Тут похмельному почудилось: свинтилась крышка подземного люка и широкое его трехспальное ложе, сперва медленно, а потом все быстрее вертясь, к люку тому поехало...
Ознакомительная версия.