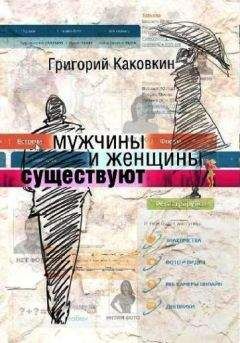— А что?
— И сюда ехала? — спросила Яна, но тон и не предусматривал вопроса. — И что?
— Ничего. Попарились хорошо? — примиряюще сказала Тулупова.
— Хорошо, — отрезала Яна. — Попарились что надо. Давай мужиками меняться. Мне твой барбос понравился. Где ты его отхватила? У немца тоже мачта стоит нормально — не пожалеешь.
Тулупова подняла голову и посмотрела такими глазами на Яну, что та сразу ретировалась:
— Ладно. Не будь учительницей! Шутка. Я им там двоим минетик уже сделала — можешь уже со своим не трудиться…
“Дорогой Павлик! Тут, знаешь, такая история со мной — я сбежала, можно сказать. От мужчины. Первый раз в жизни. Сбежала и вот. Как я на это решилась?! Одна женщина из Узбекистана, русская, хорошая, проводила меня от дома до станции. Мы шли. Не знаю, как определить это, но я, как разведчик, шла, будто возвращалась из-за линии фронта после задания. Ни о чем не разговаривали. Молча шли и шли. И все было сказано. Просто, я чувствовала себя еще несчастнее ее, хотя куда еще. У нее ни кола ни двора, ни детей, ни мужа, один Бог только. Если он есть, прости меня, Господи, за мои мысли, но как ей-то жить. И я вот стояла потом на платформе одна и думала. Станция назвалась “Светлый Яр”. Яр — это что — обрыв? Да? Кажется. Утро. Никакого обрыва нигде. Степь, как у нас в Червонопартизанске или у вас в Желтых водах. Умеют у нас называть. Назвали — и привет, до свидания, живите. Стою, уже осень и холодно уже. В холод всегда приходят холодные мысли. Такие четкие и горькие, как лекарство. Куда меня всегда несет, куда, дуру старую? Меня, как рыбу ловят. Ее ловят на червяка — а меня на любовь. Червяк болтается у рыбы под носом, она видит, наверное, что болтается странно как-то, даже видит еще точно жало крючка, оно поблескивает, но хочется и все. Вот хочется любви и все. А зачем мне она? Зачем мне любовь эта? Что в ней такого? Ничего. Все видишь — а вот что получается. Подошел поезд, я села в холодный вагон электрички, еще там форточки пооткрывали все, но я не пыталась их закрыть. Понимаю, что простужаюсь, а ветер в лицо — и знаешь, приятно. Вот она, моя новая жизнь. Ужас. Нет, не ужас, а просто. Крикнуть хочется, а звука нет. Нечем. Потом я перешла в другой вагон. Там тоже форточки открыты — молодежь, наверное. Им все жарко. Потом нашла вагон, куда все пассажиры забились, те, кто так рано, в субботу, едет. Народу мало — от Москвы это далеко. Я смотрела в окно, и ты знаешь, думала, что вот слева и справа вроде одно и то же, все тот же Яр какой-то, или какой-нибудь Светлый лес, или чего там — не знаю, а вот так: мужчины — это одно, а женщины — другое. Какую-то глупость написала. Но, в общем, я хотела сказать, что я смотрю, и мне кажется, что все разделено, я не знаю почему, но вот все разделено, абсолютно все. Деревья, земля, поля, вот все-все, что видишь — это или мужчина, или женщина. И даже шкаф, кровать, тумбочка, табурет, стиральная машина. Я сейчас посмотрела на свою кухню, где сижу, и вижу точно: все то же — или “он”, или “она”. Вот все. Есть только мужчины и женщины, есть тумбочка мужчина и тумбочка женщина. Почему нет? И табуретка. Вот она стоит одна — и все ясно с ней. Ей плохо. Вот подставила рядом еще одну — и другая картина. Они вместе. Почему нет? Мы просто этого не знаем — и все. И им нельзя друг без друга, только рядом они могут быть, им надо быть вместе. Я смотрела — стекло в вагоне электрички грязное — и береза слева, и береза справа, озерцо какое-то, все быстро, все сливается от скорости, не можешь разглядеть, но я вижу, что это “они” и “мы”. Бестолковые бабы. Которым нужна любовь до последнего. Опять глупость. Конечно, это глупость, но я уже столько глупостей тебе написала, что, если будет еще одна, ты, Павлик, не обидишься, я знаю, и поймешь. И еще я ехала и думала, чего я испугалась, что он, мой кремлевский парень, он что — святой, я же про него ничего не знаю, так, только все с его слов. Сказал — я поверила. Значит — так. Он мне ничего не обещал, я ему — тоже. Вот мой папа, он любил мать? Я не знаю. Наверное, любил. А может быть, и нет? Все смеются над той теткой, что по телевизору в телемосте с американцами сказала в горбачевские времена: “В Советском Союзе секса нет”. А ведь правду сказала, правду, какой секс за шкафом в Червонопартизанске? Какой?! Там была только любовь. А секса, действительно, не было. Любовь была. Я вот раньше считала, какая может быть у моих родителей любовь, он выпить любит, да и вообще, а вот вместе прожили столько лет. Любовь была. Может, и без секса. Матери, по-моему, вообще это не было нужно. Хотя я не знаю, никогда об этом не разговаривали. Никогда. Я с Виктором года не прожила и ничего не понимаю в этом. Потом электричка приехала на Казанский вокзал. На Курском вокзале полно милиции. С собаками ходят, ищут бомбу или террористов — не знаю. Я вышла и иду по перрону. Нас поторапливают — быстрее-быстрее, а мне очень захотелось погладить собачку, просто ужасно хотелось. Я подошла к милиционеру и спросила, можно мне ее погладить, а он посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и сказал… Все, заканчиваю, ключ в двери крутят — Сережа или Клара… Оба, вместе пришли. Пока, Павлик, буду их кормить. Их — я люблю.“
Выпал снег. Он был первый. Радостный.
Тулупова шла по лужам к метро с каким-то необычным волнением и счастьем. Ее мысли крутились, как падающие большие мокрые снежинки, вокруг простого вопроса: что ее ждет этой зимой? Вопрос простой, но со сложным ответом: она теперь не будет зимовать, как медведь, в своей квартире, а будет ходить на выставки, на каток, на лыжах, может быть, с Вольновым. “…а почему нет, он должен любить лыжи, он лыжник, нет, он должен любить свою жену лыжницу, пусть он ее любит, а я буду ходить одна, буду любить только лыжи, а не Вольнова”. Бесконечно долго повторяя слово “лыжи”, она втягивалась в новое время года, в зиму, в ее первые дни. Такую светлую, бодрящую, здоровую. Подойдя к станции метро, у самых дверей она стряхнула снег со своего любимого розового с фиолетовыми вставками берета и тут же задумалась о том, что будет носить, что непременно надо бы купить. Она спускалась по эскалатору и подсчитывала, сколько будет стоить обновление гардероба теперь, когда цены подпрыгнули. Потом пришли мысли о зарплате, о том, что она материально ответственное лицо и ей могли бы прибавить, тем более что уже два года она получала эти деньги и редко премии — все. Больше ни копейки. Она представляла, как встретит ректора института в коридоре или сама подойдет в приемную и запишется. Она ехала в людном вагоне, мысленно перебирая свои зимние вещи в шкафу — что еще можно носить, а что — нельзя. И почти за каждой вещью стояла история, а иногда и мужчина. И потом она придумала сцену: прийти к ректору Василию Трофимовичу со всеми своими вещами и сказать, Василий Трофимович, вы мне скажите, я должна в этом ходить до конца своих дней и умереть в этой кофте, купленной еще при Авдееве? Или вы мне прибавите? “Я не могу — мы на бюджете, у нас и так, как у творческого вуза…” А она ему: “Вы ректор или вы кто?” — “Или кто! А кто такой ваш Авдеев? Пусть он вас одевает”. — “Его нет. Он спился. Я одеваюсь сама, вы посмотрите — тут носить нечего. Вы хотите, чтобы книги студентам выдавала бомжиха в обносках и тряпье?” — “Я ничего не хочу!” — “Оно и видно”. — “Выдавайте книги, хоть голой!” — “Это мысль”. Она придумывала этот невозможный диалог с ректором, и было очень весело. Когда вышла из метро наверх, она снова удивилась всему белому вокруг — первому снегу, который падал и здесь, у этой станции, в этой части Москвы, и было так хорошо на душе, что, проходя мимо охранника Олега, она неожиданно сказала вместо “здравствуйте”:
— Олег, со снежком!
— Да, Людмила Ивановна, со снежком. С первым!
От Вольнова пришло короткое письмо по электронной почте: “Куда пропала? Звонил вчера — ты была вне зоны доступа”.
“Они как звери чуют на сотни километров борьбу за самку. То никого, а то “куда пропала?”
“Никуда я не пропадала. Вот она — я. Снег выпал. Ты будешь со мной ходить на лыжах этой зимой? Или тебе только ЭТО надо, мальчик мой?”
Хирсанов въехал в Москву тем же утром по первому снегу. Вернее, он не въехал, а его привезли.
— Пора, пора, мне пора. Все. Все. Не хочу, — на разные лады твердил он всем, отказываясь от рюмки на посошок, от рассола, облегчающего душу, от поцелуев и объятий. — Пора! Все!
За два воскресных дня он так устал от типового банного сюжета, известного до деталей и прописанного с тщанием Анатолием Нихансом, что не решился вести машину сам. ГАИ он не боялся, но после бессонного застолья садиться за руль было безумием. Ниханс нашел ему молодого парня, водителя, который согласился за небольшие деньги отвезти его в Москву на хирсановском джипе и вернуться поездом обратно. Наконец, ворота открыли и поехали.
Хирсанов сидел рядом с парнем, имя тотчас забыл, иногда проваливаясь в сон, потом вздрагивал и просыпался, сидел с закрытыми глазами и корил себя за неподобающую его возрасту и положению жизнь, и с ужасом вспоминал Яну и ее крупнозадую подружку Наташу, которая пришла на другой день, когда Тулупова уехала. Он думал, что Людмила его любит, что она хорошая, добрая женщина, с такой фигурой и грудью, что ему ничего не надо искать, только остановиться, причалить свое старое суденышко — снять бы для нее квартиру да жить на два дома, не разводясь и не бросая больной жены. А летом можно даже поехать вместе в Италию к Франческо Чито.