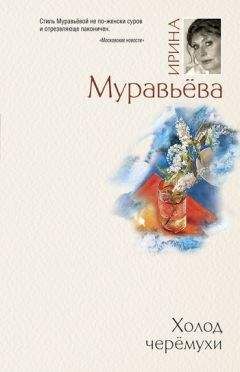Ознакомительная версия.
– Смерть идёт, – тихо, с особым выражением, сказал он доктору Спасскому.
В ночь на 15 сентября муж и жена Алфёровы были расстреляны. По непроверенным слухам, их тела тою же ночью были перевезены из помещения внутренней тюрьмы на Лубянке в морг Яузской больницы, а оттуда вместе с остальными сотнями людей, расстрелянных в ту же ночь в разных местах Москвы, свезены на Калитниковское кладбище и там похоронены в братской могиле.
Ночью у Пушкина появилось мучительное чувство тоски.
«Ах, скоро ли это всё кончится? Какая тоска!» – говорил он врачам.
«Истаивает», – сказал доктор Спасский.
Днём умирающему захотелось мочёной морошки. Он попросил жену покормить его. Она опустилась на пол у его изголовья. Пушкин с наслаждением сьел две ягодки и выпил ложку сока.
«Как хорошо», – сказал он.
Жена приникла своим лицом к его лицу. Он ласково погладил её по голове и что-то тихо и нежно сказал ей.
Нина Веденяпина почти каждый день получала от своего сына записочки, в которых он сообщал, что жив и здоров, находится в тюрьме, но в очень приличных условиях, его кормят и ночью дают ему спать, а днём он занимается разработкой «психических опытов» и готовится к экспедиции на Крайний Север.
Однажды он написал ей, что, может быть, перед экспедицией им разрешат повидаться, а ещё через неделю добавил, что его обещали отпустить домой на двадцать четыре часа для того, чтобы попрощаться с родителями и взять с собою тёплую одежду. С этой минуты Нина начала лихорадочно надеяться и ждать. Она распустила все оставшиеся в доме, ещё не обменянные вязаные вещи, чтобы связать ему носки, варежки и свитер. Растительное масло, изредка приносимое Александром Сергеевичем из больницы, аккуратно сливала в бутылочку, на мужа и себя больше не тратила: масло пригодится для сына. И сама начала вдруг излучать счастье такой силы, что Александр Сергеевич однажды посмотрел на неё с недоумением и пробормотал:
– Чему ты так рада? Его ещё не отпустили!
Что было хорошо в эту осень, так это особенный, небывалый урожай яблок. Подмосковные сады стояли золотыми от налившихся и мягко падающих плодов, которые, падая, с шёлковым стуком ударялись не о землю, а о те яблоки, которые уже лежали на ней, и на жёлтой траве вырастала как будто бы новая почва из этой гниющей, скисающей мякоти, в которой слегка увязали подошвы. Запах яблок стоял в Москве даже по ночам, тем более что и дождей почти не было: ну, разве что утром, пораньше немного покапает с неба и стихнет.
От яблок, от всей их божественной сути у тех, кто повлюбчивей да помоложе, пошли кругом головы. Хотелось запеть, закружиться, заплакать, надеть голубое и красное платье, а после стоять на мосту и прощаться.
Дина Форгерер была твёрдо уверена, что никто на свете так не предавал, как она, так дико не лгал, как она, и так, как она, не запутывал жизни. И хотя она думала об этом по-прежнему очень часто, горе от предстоящей разлуки с Алексеем Валерьяновичем разрывало её, и, погрузившись в своё горе, она почти перестала замечать всё, что происходило вокруг.
Часа в четыре, возвращаясь домой с репетиции и проходя через перекрёсток на Арбате, она заметила большое скопление людей перед фонарным столбом, на котором было наклеено броское, огромными буквами набранное объявление. Она остановилась.
Силами нашего доблестного ЧК был раскрыт крупнейший контрреволюционный заговор «Национальный центр», основные очаги которого были расположены в Москве и Петрограде. «Национальный центр» подчинялся злейшим врагам нашей большевистской власти, гидрам контрреволюции и пособникам империализма генералам Деникину и Колчаку и существовал на кровавые деньги международной буржуазии. Но враг просчитался. Пособники империализма и грязные слуги генералов Деникина и Колчака обезврежены. Справедливое возмездие рабоче-крестьянской власти настигло их до того, как они сумели осуществить свои подлые замыслы. Мы заявляем, что рабоче-крестьянская власть не потерпит, чтобы дело светлого будущего нашей страны было перепачкано жадными лапами врагов-контрреволюционеров. Следствие по раскрытию контрреволюционного белогвардейского заговора «Национальный центр» продолжается. Всех без исключения лиц, принимавших прямое или косвенное участие в этом заговоре, постигнет справедливое возмездие со стороны нашей рабоче-крестьянской власти. Красный террор пущен в ход! И загуляет он по буржуазным логовам, затрещит буржуазия, зашипит контрреволюция под кровавым ударом красного террора.
Под этим воззванием шли списки расстрелянных. Александр Дмитриевич, – прочитала Дина, – Алфёрова Александра Самсоновна, Богуславский Михаил Спиридонович…
Она отступила на шаг назад и оглянулась. И справа и слева от неё были одинаковые, серые, с испуганными и мрачными глазами люди.
– Алфёров? – вскрикнула вдруг маленькая женщина слева от Дины. – Но это неправда! При чём здесь Алфёров?
На неё злобно, со страхом зашикали.
– Уж там разобрались: при чём – ни при чём! – выдохнул костлявый, в огромной кепке, почти закрывшей его больное, полное ненависти лицо, человек. – Ведь ясно написано: гидра! Вот то-то! А то разжирели на нашей-то кровушке!
Динины глаза в упор посмотрели на ту, которая только что крикнула: «Алфёров!» Не сговариваясь, они выбрались из толпы, перешли дорогу и остановились на углу Арбата и Староконюшенного переулка.
– Вы знали его? – прямо спросила Дина. – Вы кто?
– Я – Веденяпина Нина Алексеевна. Да, я хорошо его знала.
Она зарыдала, затряслась и пробормотала сквозь рыдания:
– А вы? Вы его тоже знали?
– Я – Дина Ивановна Форгерер. Окончила гимназию Алфёровых. И я, и моя сестра Таня.
– Он ничего, поверьте мне, – захлёбываясь слезами, зашептала Нина Алексеевна, – он ничего не мог сделать такого! Он же не военным был человеком, совсем не военным, нисколько! Я даже не думаю, что он умел стрелять! Какой там Колчак и Деникин?
– Тише! – одёрнула её Дина. – Пойдёмте отсюда!
– Куда? – прошептала Веденяпина. – Нам некуда идти! А у меня там сын, понимаете? Сын у меня там! У них!
– Вы сказали: Веденяпина? – опомнилась Дина. – И мужа вашего зовут Александром Сергеевичем? И он у вас врач? Психиатр?
Глаза Нины Алексеевны потемнели от страха.
– Откуда вы меня знаете? И мужа? Откуда?
– Неважно! – отрезала Дина. – Не бойтесь, я не из ЧК!
– Скажите: откуда? – прошептала Веденяпина и дотронулась до Дининого рукава своей мокрой от слёз рукой. – Сейчас всё так страшно, ужасно… Скажите!
– Я сестра Тани Лотосовой. Той Тани, какую вы видели.
– Ах, Тани! – Веденяпина опустила голову и тут же снова подняла её. – Вы, может быть, думаете, что я сейчас возмущаться буду? Жаловаться? Да разве сейчас нам до этого? Господи! Вы видели? Их расстреляли! И Сашу…
Она опять сморщилась, стараясь удержать подступившее рыдание.
– Подумайте только! – хрипло забормотала она. – Мне сын мой записочки пишет! Мы с мужем всё ждём: он вернётся… А что, если завтра…
И замолчала.
– Его отпустят! – неуверенно сказала Дина. – Я вас уверяю, что отпустят…
– Откуда вы можете знать?
Дина закусила губу.
– Я не могу вам сказать. Об этом нельзя говорить.
– Нельзя? Даже мне? Он – мой сын!
– Совсем никому! Даже вам! Вы поверьте…
– А я очень верю! – страстно, дико, восторженно перебила Веденяпина. – Я очень вам верю! Если бы я не верила, если бы все эти месяцы, как его увели, если бы я не верила, неужели бы я прожила так долго?
И вдруг словно вспомнила что-то.
– Я Сашу, Алфёрова Сашу, Александра Данилыча, видела в тот день…
– В какой? – испугалась Дина.
– В тот день, – повторила Веденяпина. – Я пошла за дровами на Смоленскую. А мне и не нужны были дрова, у нас ещё были дрова, меня что-то словно толкало… Шёл снег, небольшой, зима-то кончалась, но снег ещё шёл… И вдруг он окликнул меня. – Голос её сорвался. – Когда я вернулась домой, то Васю уже не застала. Они его взяли, пока я ходила…
– Говорю вам: его должны отпустить… Его очень скоро отпустят!
– Сестра ваша здесь? – тихо спросила Веденяпина.
– Сестра моя здесь ни при чём, – так же тихо ответила Дина. – И вы о ней не говорите, пожалуйста! Куда вы сейчас?
– Я в церковь. Я часто хожу. Проводите меня.
Дина пошла было рядом с Ниной Алексеевной по Староконюшенному, но, пройдя несколько шагов, остановилась.
– Нет, я не могу. Мне тут нужно… по делу…
– Прощайте! – сказала Веденяпина.
– Прощайте! – ответила Дина.
В семь часов утра за Алексеем Валерьяновичем, как всегда, приехала машина.
– В лабораторию, – коротко приказал он шофёру и отвернулся, поднял глаза на свои окна, где горел свет.
Дина Ивановна Форгерер, сегодня первый раз за всё их знакомство проведшая в его квартире всю ночь, стояла, слегка отодвинув тяжёлую штору, и смотрела на него. Волосы окружали её лицо размётанным, похожим на густую листву, покровом. Барченко помахал ей перчаткой. Она приподняла худую, слегка сверкнувшую белизной среди темноты руку и слабо пошевелила ею, потом прижалась губами к стеклу и прошептала что-то.
Ознакомительная версия.