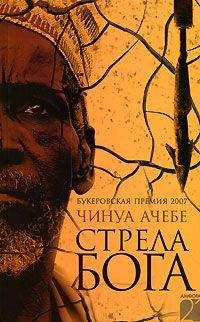Трое мужчин слушали его в молчании. Акуэбуе щелкал пальцами и мысленно приговаривал: «Ну, теперь я понимаю, почему Эзеулу вдруг почувствовал к нему такое расположение. Оказывается, их мысли — братья». Но на самом деле Эзеулу впервые слышал мнение Нводики о белом человеке и радовался, что оно совпадает с его собственным. Однако он тщательно скрывал свое удовлетворение: раз уж он составил себе определенное мнение о чем-то, не следовало создавать впечатление, будто он ищет поддержки у других; пусть другие ищут подтверждения своим мыслям в его мнении, а не наоборот.
— Вот таким-то образом, братья мои, — продолжал свой рассказ сын Нводики, — ваш брат и начал работать у белого человека. На первых порах он поручил мне пропалывать свою усадьбу, но спустя год он подозвал меня, похвалил мою старательность и поручил работу у него в доме. Белый спросил, как меня зовут, и я назвал ему мое имя; но он не смог выговорить «Нвабуэзе» и сказал, что будет звать меня Джону. — При этих словах на лице его засияла улыбка, но она тут же потухла. — Мне известно, что кое-кто у нас на родине распускает слух, будто я готовлю для белого человека. Так вот, брат ваш не видит даже дыма над его очагом; я лишь навожу порядок в его доме. Знаете, ведь белый человек не такой, как мы; раз он ставит эту тарелку здесь, он рассердится, если вы поставите ее там. Поэтому я день-деньской хожу по его дому и слежу, чтобы каждая вещь была на своем месте. Но, поверьте мне, я не собираюсь всю жизнь оставаться слугой. Как только мне удастся скопить немного денег, я думаю открыть маленькую табачную лавку. Пришельцы из других мест наживают большие богатства на торговле табаком и на торговле тканями. Люди из Элумелу, Анинты, Умуофии, Мбайно — вот кто хозяева на этом большом новом базаре. Они-то и вершат там все дела. Есть ли среди здешних богачей хотя бы один умуарец? Ни одного. Иной раз я стыжусь отвечать, когда меня спрашивают, откуда я родом. Мы не имеем своей доли на базаре; мы не имеем своей доли в конторе белого человека; мы не имеем своей доли ни в чем. Вот почему я возрадовался, когда на днях белый хозяин позвал меня и сказал, что в моей деревне, как ему известно, есть один мудрый человек и что зовут его Эзеулу. Я ответил «да». Дальше он спросил, жив ли еще этот мудрец. Я опять ответил «да». Тогда он сказал: «Пойдешь с главным посыльным и передашь ему, что я хотел бы порасспросить его об обычаях его людей, так как мне известна его мудрость». Тут я и сказал себе: «Вот он, наш счастливый случай, теперь-то наше племя обратит на себя внимание белого человека!» Я ведь не знал, что так получится. — Он опустил голову и скорбно уставился в землю.
— Ты в этом не виноват, — сказал Акуэбуе. — В жизни всегда так бывает. Наш глаз видит что-то; мы берем камень и прицеливаемся. Но камень не так меток, как наш взгляд, он редко попадает в цель.
— И все же я виню себя, — грустно проговорил сын Нводики.
— До чего же ты подозрительный человек! — заметил Эзеулу, когда остальные ушли на ночь к сыну Нводики, оставив Акуэбуе и Эзеулу одних в маленькой арестантской.
— Я считаю, что человек не должен умирать, пока ему это не прикажет его чи.
— Но этот малый не отравитель, хоть он и родом из Умуннеоры.
— Не знаю, не знаю, — возразил Акуэбуе, покачивая головой. — Каждая ящерица лежит на брюшке, так что не угадаешь, у которой из них живот болит.
— Верно. Но, говорю тебе, сын Нводики не желает мне зла. Отравителя я чую по запаху, так же как прокаженного.
Акуэбуе только покачал головой в ответ. Эзеулу едва различил этот жест в слабом мерцании масляного светильника.
— Разве ты не наблюдал за ним, когда предложил связать нас кровными узами? — продолжал Эзеулу. — Если бы он затаил злой умысел, ты бы увидел это у него на лбу. Нет, этот человек не опасен. Наоборот, он поступает по примеру людей далекого прошлого, которые любили гордиться собой. В наше время развелось слишком много мудрецов, только мудрость у них не добрая, а такая, от которой чернеет нос.
— Как тут можно спать с этими москитами? Поедом едят! — воскликнул Акуэбуе, яростно обмахиваясь веничком из веток.
— Это еще что! Вот погоди, увидишь, как они озвереют, когда мы погасим светильник. Я собирался попросить сына Нводики нарвать для меня листьев аригбе и попробовал бы их выкурить. Но после твоего прихода у меня все из головы вылетело. Прошлой ночью они только что не на куски нас разгрызли. — Эзеулу тоже размахивал метелкой. — Так, говоришь, все твои живы-здоровы? — спросил он, стремясь повернуть разговор на что-нибудь другое.
— Как будто все тихо-мирно было, — ответил Акуэбуе и зевнул, закинув назад голову.
— Что ты собирался поведать мне об Уденкво? Помнишь, ты так и не успел досказать мне ту историю про нее.
— А ведь верно, — оживился Акуэбуе. — Если бы я стал уверять тебя, что Уденкво меня радует, я бы обманывал самого себя. Она — моя дочь, но, прямо скажу, она вся в мать. Сколько раз я говорил ей: женщина, которая несет свою голову на негнущейся шее, будто на голове у нее всегда стоит сосуд с водой, скоро рассорится даже с самым покладистым мужем. Я не слыхал, как рассказывает эту историю мой зять, но из рассказа Уденкво я могу заключить, что причина ссоры — самая пустячная. Моему зятю объявили, что он должен принести в жертву петуха. Приходит он домой, показывает на одного петуха и велит детям поймать его и связать ему ноги. Петух, как оказалось, принадлежал Уденкво, и она затеяла ссору. Все это я услышал из ее собственных уст. Тогда я спросил ее: неужели она хочет, чтобы ее муж пошел за петухом на базар, тогда как его жены держат кур? А она отвечает: «Почему в жертву приносится всегда мой петух? Отчего бы не взять петуха у другой жены — разве духи объявили, что им по вкусу только курятина Уденкво?» Я ей тогда говорю: «Сколько раз он забирал у тебя петуха, и вообще, откуда мужчине знать, кому какой петух принадлежит?» Она на это ничего не отвечает, знай ладит свое: мол, когда мужу нужен петух для жертвоприношения, тогда он и вспоминает о ней.
— И это всё?
— Всё.
— Можно подумать, что твой зять приносит жертвоприношения каждый базарный день, — улыбнулся Эзеулу.
— Это я ей и сказал, слово в слово. Но, повторяю, Уденкво вся в мать. На самом деле ее рассердило то, что мой зять не упал ей в ноги и не стал умолять ее.
Эзеулу ответил не сразу. Похоже, теперь он посмотрел на это дело с другой стороны.
— Каждый мужчина управляет собственным домом по-своему — вымолвил он наконец. — Когда у меня самого бывает надобность в чем-нибудь таком для жертвоприношения, я делаю так. Зову одну из жен и говорю ей: «Мне нужно то-то и то-то для жертвоприношения, пойди и добудь мне это». Конечно, я могу взять, что мне нужно, и без нее, но я прошу, чтобы она пошла и принесла это сама. Я на всю жизнь запомнил слова, которые мой отец сказал однажды своему другу, хотя я слышал их ребенком: «По нашему обычаю мужчина не должен становиться перед женой на колени и бить лбом оземь, чтобы вымолить у нее прощение или попросить о каком-нибудь одолжении. Однако, — продолжал мой отец, — умный человек понимает, что в отношениях между ним и его женой может возникнуть положение, когда ему необходимо сказать ей по секрету: „Я прошу тебя“. Когда такое случается, никто, кроме них, не должен об этом знать, и жена, если у нее есть хоть капля разума, никогда не станет этим хвастаться и даже словом никому не обмолвится. Иначе сама земля, на которой унижался перед нею муж, сокрушит ее и уничтожит». Вот что сказал мой отец своему другу, утверждавшему, что мужчина никогда не бывает неправ в своем собственном доме. Я не забыл этих слов моего отца. Петух моей жены принадлежит мне, потому что тот, кто владеет человеком, владеет также и всем, что тот имеет. Но ведь есть много способов убить собаку.
— Все это так, — согласился Акуэбуе. — Однако подобные слова следует приберечь для ушей моего зятя. Что же до моей дочери, то ей следовало бы отказаться от мысли, будто всякий раз, когда муж скажет ей что-нибудь обидное, она должна привязывать к спине младенца, брать малыша постарше за руку и возвращаться ко мне. Моя мать так не поступала. Уденкво научилась этому у своей матери — моей жены — и собирается научить тому же своих детей: ведь когда корова жует слоновую траву, телята смотрят ей в рот.
На четвертый день своего пребывания в Окпери Эзеулу был неожиданно вызван на свидание с мистером Кларком. Он последовал за посыльным, сообщившим приказ явиться в дом, где находился кабинет белого человека. В коридоре было полно народу; одни сидели на длинной скамье, остальные — на цементном полу. Посыльный оставил Эзеулу подождать в коридоре, а сам прошел в соседнюю комнату, где множество людей, сидевших за столами, работали на белого человека. Эзеулу видел через окошко, как посыльный обратился к мужчине, который, видно, был начальником над всеми этими работниками. Посыльный показал рукой в его сторону, мужчина посмотрел на Эзеулу, но только кивнул головой и продолжал писать. Потом, закончив свое писание, он открыл дверь в другую комнату и зашел туда. Выйдя почти сразу обратно, он жестом подозвал Эзеулу и ввел его в комнату к белому человеку. Белый тоже писал, но левой рукой. Увидев это, Эзеулу невольно подумал: неужели и какому-нибудь черному удастся со временем достичь такого же совершенства в письме, чтобы писать в книге левой рукой?