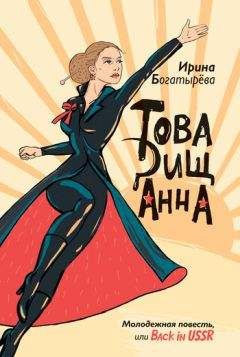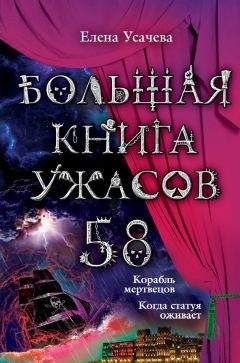– Ты, заметь, вообще еще ничего про себя не сказал.
Он надменно повел головой, приподняв подбородок, будто не расслышал.
– Он тебе нравится, да? – спросил ревниво. – Или просто тебя обеспечивает?
– Слушай, еще слово – и я тебя выгоню.
– Ой, ну не надо! – проворковал, ничуть не испугавшись. Он вел себя теперь, как девчонка. Надулся, отвернулся, молчит. Но наверняка через минуту снова чем-нибудь увлечется.
Так и вышло. Стоило мне обернуться к столу, Ганя оживился.
– А чего ты ему готовишь?
– Салат.
– Мужику – салат? Я тебя умоляю!
– Ну ведь не один же будет салат.
– Мясо надо, мясо.
– И сало! – не выдержала я.
Он онемел, растерявшись, а потом рассмеялся. Я засмеялась тоже.
– Нет, ну я серьезно. Ну не мясо, так хоть рыбу. На реке ведь живешь.
– Да он привезет что-нибудь из города. Приготовим.
– Тю, полуфабрикаты, – скривился эфеб. – Свари уху нормальную, с водочкой, чего как неживая.
– Да где мне рыбу взять?
– У рыбаков.
– Это где?
– Где-где. Вчера где была? Где причал – там и рыбаки. Там у них станция.
– А… Ну, я не знаю.
– А чего знать-то? Ничего не надо! Уха – проще простого!
И он пустился в кулинарные глубины, живописуя, как можно приготовить рыбу. Он увлекся сам, увлек меня, смеялся. От него шла какая-то удивительная простота. Никаких барьеров, как бывает между мужчиной и женщиной, просто между незнакомыми людьми. В нем была доверчивость и нежность, и ему хотелось также доверять. В нем была ранимость, которую хотелось оберегать. Он казался полной противоположностью всему миру, всему мужскому миру с его замкнутостью, силой и унижающей властью.
– Ты вообще любую рыбу умеешь готовить? Хоть речную, хоть морскую? – спрашивала я, отсмеявшись после его рассказа.
– Ой, ну это же просто! Надо только взяться.
– А большую?
– Какую – большую? Щуку, что ли?
– Ну – сома?
– Сома? – Он вдруг о чем-то вспомнил и снова переменился. Замер, будто прислушивался. – А времени сколько?
– Полпятого.
– Мне пора. Все-все, пока. Мне уже пора.
Он улепетнул прежде, чем я успела ответить.
7
Идея с ухой мне понравилась. Как только мой эфеб ушел, я отправилась на станцию и накупила рыбешек. Картошка, лук – все было свое. Не хватало только водки, но это меня не расстроило. Я вдохновенно хлопотала, представляя радостное Максово удивление. Сладкий запах наполнил дом. Оставалось сидеть и ждать Макса.
И когда он приехал, я сразу принялась доставать тарелки.
– Садись, горячее пока, – в предвкушении ворковала, хватая в руку половник.
– А что это? – улыбался он.
– Уха! – Я радостно булькнула в тарелку рыбью голову в наваре и кусочках картошки и обернулась к нему.
Улыбки уже не было. По виноватому его лицу я поняла, что все пропало.
– Не будешь?
– Ну, Галь, понимаешь, дело в том, что я рыбу…
Он угадал все: и мое радостное возбуждение, и ожидание, и предвкушение сюрприза. Ему было жаль меня, но что он мог поделать? Он не мог притвориться.
Меня взяла досада. Я резко поставила тарелку на стол, схватила ложку и села, намереваясь умять все сама, ему назло. Не глядя на него, хмуро проглотила первую ложку. Было вкусно и от этого еще обидней.
– Я понимаю, было бы мясо. Но рыбу-то почему нельзя? Рыба, говорят, боли не чувствует.
– Да нет, я ее с детства, – извиняющимся тоном ответил Макс. – Просто потому, что рыбы утопленников едят.
Вторую ложку я выплюнула в тарелку.
– Специально, да? Сам не ешь, так мне аппетит портишь? – Ну, ты же спросила, – пожал он плечами. – А к тому же это правда. Рыба всеядна. Она и мальков собственных, и друг друга, и всякую гадость со дна. И утопленников.
– Когда я маленький был, – продолжал Макс, – меня к бабушке возили. Деревня тоже на реке была. Там такая тихая заводь. Ивы, коряга. С нее мальчишки рыбу ловили и купались, ныряли. А я маленький еще был, меня бабушка к ним не пускала. И пугала: вот утонешь, под корягой застрянешь, тебя рыбы съедят. Сам рыбьим станешь царем.
– Кем-кем?
– Рыбьим царем.
– Я в детстве себе это хорошо представлял, – продолжал Макс. – Что утопленников съедают рыбы, и они становятся рыбой, а кто-то из них – царем. Он мне представлялся большим придонным сомом с усами, но с человеческим телом. Мертвым, распухшим телом. Рыбий царь, царь смерти. Вокруг него рыбы, русалки всякие. А он сам – это все люди, мертвые люди, которых он съел. Все – в нем. Я себе это хорошо представлял. И он зовет как будто со дна. Наслушаешься, нырнешь – и не вынырнешь. Останешься у него. Им станешь. Царем смерти. У нас там ловили большущих, жирных сомов. Бабушка иногда брала, жарила или пироги пекла, но я уже тогда есть не мог. Они тиной воняют. Потом это на всю рыбу перешло.
– Психоз, – сказала я жестко.
– Психоз, – согласился Макс. – А что делать?
Я задумалась, глядя в тарелку с желтоватым бульоном. Потом поднялась, вылила тарелку в кастрюлю, вышла с кастрюлей в сад и в дальнем углу опрокинула над гумусной ямой.
На кухне Макс уже строгал огурцы.
8
На следующий день я проснулась в ужасе: мне снился кошмар. Мне снилось, что я и мой эфеб гуляем по поселку. Как с Максом, мы доходим с ним до косы, и он зовет меня дальше, на самый конец гряды бетонных ежей, он обещает мне показать что-то там и смеется. Я весело смеюсь вместе с ним и лезу следом. Перебираясь с ежа на ежа, перешучиваясь, мы двигаемся вперед, а вода, холодная на вид, плещет под бетонным брюхом, и чайки кружат над нами, хмуро вглядываясь в глубину. Мы доходим до конца, и он показывает мне место, где между ежами – глубокая заводь, словно колодец. Пронзенная светом вода кажется желтоватой, там много рыбы, и чайки метят как раз туда, но не ныряют, взлетают от самой волны со злым криком. «Что там ?» – недоумеваю я, а он смеется. Он смеется, и вдруг спиной, не сводя с меня глаз, падает в этот колодец. Падает – и сразу камнем на дно. И голова его под водой раскалывается о бетонную ногу ежа, но он продолжает смеяться, глядя в глаза, и лицо его по-прежнему прекрасное, злое, он издевается так надо мной. Я в ужасе, я вижу, как вся рыба сплывается к его голове и ест мозг, но ему это вроде бы даже приятно, он смеется из-под воды. Я убегаю. Я бегу и чую, что он преследует меня своим смехом. Я забиваюсь в дом, на второй этаж, закрываюсь с головой одеялом, я чувствую себя виноватой в его смерти, меня обвинят в ней, теперь все скажут, что это я его убила, я, и никак, никак не оправдаться…
В дурном настроении я спустилась вниз. На кухне Макс взбивал яйца для омлета. Он торопился на работу, был уже в брюках, но без рубашки, повязал на себя фартук и выглядел так очень смешно. Только засмеяться не удавалось.
– Ну ты и спать, – сказал он бодро. – Я звал, звал. Не добудишься тебя.
– Лучше б добудился, – буркнула в ответ.
– Сон плохой?
– Кошмар. Все ты вчера со своей рыбой.
– Не моей, а твоей, между прочим. Я рыбу не ем, – ухмыльнулся он.
– Зануда.
Он только жизнерадостно рассмеялся.
9
– Ну что, – спросил меня Ганя, без обиняков заваливаясь прямо на кухню. – Понравилась твоему уха?
День был пасмурный, то и дело принимался дождь. С отъезда Макса я так ничем и не занялась. Слонялась в дурном состоянии духа, то и дело выглядывала в открытую дверь. Не могла же я себе признаться, что жду этого наглеца!
Я глянула на него мрачно.
– Нет, – ответила. – Он рыбу не ест.
– Почему? – Он вскинул брови и застыл в картинном удивлении.
– Потому что рыба ест покойников.
– Тю, что за ерунда! – отмахнулся он в своей жеманной манере. – Слушай, и зачем тебе такой мужик? – спросил, усаживаясь опять на табурет, как вчера, красивым движением закидывая ногу на ногу и сладко глядя в глаза.
– Я не собираюсь с тобой это обсуждать, – ответила я резко. Наверное, даже слишком резко, но надо же было его поставить на место.
– Да пожалуйста, – фыркнул он и отвернулся.
Похоже было, что на этот раз надулся серьезно. На меня не смотрел, капризно хмурил тонкие брови. Потом полез в карман брюк и достал сигареты. Взял с подоконника зажигалку, которой я разводила газ, и прикурил. Несколько секунд я наблюдала за ним удивленно, потом спросила:
– Ты что, куришь?
– Ну да, – сказал он. – А чего?
– Ничего. Тебе не идет.
– Ой, я не собираюсь с тобой это обсуждать, – ответил он, передвинув плечами.
Наверное, стоило бы рассмеяться, но меня неожиданно взяло зло:
– Слушай, иди дыми на улицу, у нас тут не курят.
Он уставился на меня расширенными, возмущенными глазами, но не сказал ни слова и выстрелил с щелчка сигаретой в открытую дверь.
– Вот так вот, да, – сказал потом тихо. – Боишься, чтобы этот твой про меня не прознал? А мне кажется, ты зря за ним бегаешь. Уж тебе-то это никак не идет.
Он сказал это негромко, с гордой издевкой, и я задохнулась от возмущения:
– Да иди ты на фиг! Чего привязался? У меня с ним ничего нет, понял? Это просто друг, друг, тебе не понять!
Я сама не знала, отчего говорю все это ему. В этом было какое-то унизительное желание оправдаться, доказать, что не все такие, как он, что есть в жизни что-то другое, не только то, о чем он думает.