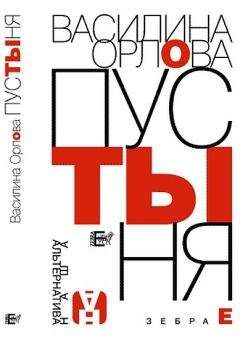Просторная, с широкими окнами, подоконниками, на которых размещается целая оранжерея, в большом новом доме, квартира та представляла собой соединение несоединимых понятий и образов жизни. Её метраж, сверхъесественный по нашим, ещё советским, меркам, подсказывал, что здесь должны бы, по всему, жить люди если не богатые, то уж во всяком случае, хорошо обеспеченные. Но минимум скудной мебели, cиротливая простуженная сантехника, философские книжки, множество простеньких покупных иконок и всякая дребедень, вроде плюшевых зайцев, керамических ангелков, подсвечников, сплошняком покрывающая все горизонтальные и часть вертикальных поверхностей, наводила на мысли о голодном студенчестве, когда запланированному удобству предпочитают сиюминутное: юбку новую купить — лучше, чем об обеде позаботиться. И едят-то тут, не смотря на Ленкину домовитость и природную рачительность, что-то подсказывало, порой скудно. По понедельникам, например, «макароны по-флотски», по вторникам «итальянские спагетти», по средам «макароны с майонезом и соусом», по четвергам «макароны с сосисками», по пятницам «галушки с сахаром», по субботам «подсоленную вермишель», и, наконец, по воскресеньям, в духе Канта, «макароны как они есть».
И пианино, на котором игрывает сестра хозяйки, обитающая тут же вместе с молодым незаконным мужем, смотрелось сиротливо в гостиной, где свободно разместился бы рояль. И всё же пространство — гулкое, пустое, просторное — было само по себе достаточным, чтобы не замечать и терять из виду хрустальные шары, подсвечники, стаканы в наборах и прочую мелюзгу, которую так любят дарить девушкам и молодым женщинам их многочисленные знакомицы и знакомцы.
Анечка встряла некстати. Я готовилась читать стихи, нервничала, как обычно. Не могла не отметить, что она здорово похорошела. Покрасилась наконец так, что не видно отросших корней волос, стрижка, против обыкновения, аккуратная, очки в непритязательной оправе, скромные синие джинсы и водолазка. Разве что шейный платок, свисающий свободно с одной из ременных лямок, выдавал в ней натуру, близкую к богеме, слежил как бы отблеском той, прежней, разряженной невесть во что Анки, какой мы её узнавали в конце коридора по особой патлатости и бахроме штанов, да по старой фетровой, доставшейся в наследство от дедушки, утверждала она, шляпе.
Мы вышли с Ульрихом покурить, точнее, я — покурить, Ульрих — просто так. На площадке лифты — новые, сравнительно недавно такие возникли: двери, как бы двойные, гармошкой, сперва отъезжает первая часть, потом вторая, вроде вертикального веера, пластинки которого складываются по одной. И запертый ход на лестницу или балкон, где, конечно же, курить было бы гораздо приятнее, чем в этакой газовой камере, свидетельствующей своими малыми размерами о том, что проектировщики домов «элитной» планировки вышли частью из коммуналок, частью из общежитий, где в ту пору веселилась, ссорилась, росла-не тужила деятельная наша страна.
Как обычно, я представила своих знакомых друг другу — Анку писательницей, Ульриха Ульрихом.
— Где можно почитать? — осведомился вежливый Ульрих.
— Есть в интернете, — сказала Анка.
Она крепко затянулась сигаретой и хмыкнула, по своему обыкновению.
— Надо только набрать в яндексе «Анна Хлюпина», — сказала я, просто чтобы подать реплику в разговоре.
— Какая еще Хлюпина? — поежилась Анна. — Я — культовый сетевой писатель по имени Липа Сползай.
Липа Сползай всё ещё не дает ей покоя. Мы придумали это прозвище на одном из семинаров, и жутко веселились, кто знал, что эта идиотка примет его за чистую монету.
Она и обо мне писала. Пересказала несколько подлинных эпизодов, уснастила солидной порцией того, что не осмеливаюсь назвать вымыслом. Нарекла героиню Серафимой, описала как девушку с кучей поклонников, обгрызенными ногтями и постоянным запахом изо рта. Может быть, так и было? Но кому приятно прочитать о себе такое?
Один раз, мимолетно, мы поцеловались. Был летний вечер. Неприкаянное дерево, ни в Киеве дядька, ни в огороде бузина, росло несколько в стороне от середины двора.
Ульрих взял мою руку в свою, привлёк и, чуть наклонив голову, гладкими, как горячие морские камни, губами коснулся моих — и сразу отпустил, продолжая только касаться талии кончиками пальцев.
Тряхнуло так — еле устояла на ногах. Ласка чуть не укокошила василиска. С кружащейся головой осторожно отстранилась, хотя добрую секунду почти хотела податься к нему всем телом, и, пересохшими губами хватая воздух и его сухие губы, просить пить.
Ну хотя бы глоток в пустыне.
О, это самый целомудренный любовный роман после «Тимура и его команды». Только легкие касания, дуновения, серебро и колыханье, туман, бесплоть, разреженное томление.
Я уже, наверное, никогда не захочу серьёзной, подлинной близости — ни с ним, ни с кем бы то ни было ещё. Со дня развода — как его звали? А, да — Дмитрий, прошло… я знаю точно, сколько дней. Но считать надо не с расставания. И даже не с того апреля, с которого живу одна… (Опять знаю, сколько). И не с того, когда хотела перебраться к Наталье (ну, прибавить ещё два дня). И не с предыдущей крупной ссоры (ещё четыре). Не с размолвки летом в Кирове два года назад, когда была готова немедленно, сразу по возвращении, перевезти свои вещи (сосчитала, сколько месяцев прошло), не со дня нашей встречи (три года), а прямо со дня моего рождения (уже двадцать пять лет), а может, с его (двадцать восемь). А может быть, и ещё раньше… Он был пустышкой. Незачем и не по ком лить слезы.
Почему же они капают и капают?
Свадебный лимузин — хуже, чем катафалк. Идя от метро, прямо на середине пути миную ЗАГС. С наступлением мая всё больше неловких невест в белых платьях и чванных, скованных костюмами женихов спотыкаются на его бетонных ступенях. И лимузины, огромные белые, разной длины лимузины совершают свои неловкие маневры. Что за бесславный конец лучшего из периодов любви — прогулка в таком вот белом крокодиле.
Что за мещанство, кукольное подобие традиций, наивное представление о роскоши, простонародный шик и блеск.
Несчастные! Как не завидовать вашему счастью мне, чья жизнь триумфально распалась? Как не сочувствовать: ведь некоторые из вас будут принуждены войти снова в казенный дворец бракосочетаний, теперь уже с той стороны.
Ульрих позвонил вечером. Говорил упавшим голосом. Спросил, как дела. «Прекрасно» — «Даже так?» Впрочем, был ласков, просто устал.
Ульрих, непременно разыщу в старых книгах, на заштатных сайтах, тайное знание о том, что значит твоё имя, и число, когда ты родился, и год. Я удалюсь в нумерологию, буду по цвету неба справляться о твоём настроении, сверять наручные часы с твоим сердцебиением за много километров отсюда. Не переживу нашей разлуки. Потому что не буду переживать.
Я смотрю на всё вокруг, как на вереницу призраков, и всё равно страдаю. Как-то расплакалась, Дмитрий сказал:
— Не плачь. Ложись рядом со мной. У тебя ещё есть месяц.
У меня есть месяц! До развода? До момента, когда нужно снова платить за квартиру? Как бы то ни было — месяц есть у меня. А не у него, не у нас. Слезы стали ещё горше, но всё-таки легла. Слёзы уйдут, а вот такая жизнь с этим человеком — останется. На что она мне?
Но я очень сильная, выстою — даю тебе руку на отсечение, выстою во что бы то ни стало. Пусть мне и тебя придется сломать, мой любимый друг. Ты всегда поступаешь как ты хочешь — погоди же. А я тоже могу!
Дождусь — я умею, говорят, можно ждать легко, не знаю, испытывала всякое ожидание, а это будет коронным номером, единственным соло, песней, ради которой стоило рождаться и не жалко загинуть. Я стану ждать.
Сурово, как средневековый матрос — нового берега прямо по курсу, потому что позади берег выцвел и ожидает смертная казнь, не на что больше надеяться. Именно так, словно Христофоров юнга, буду я вглядываться, неотступно и упорно, в белеющий горизонт, покуда все мои товарищи кровоточат дёснами, теряют зубы и умирают от лихорадки.
Я буду дожидаться — вязать, читать, играть с кошкой или ребёнком, разговаривать с братом, сама с собой, стоять на остановке, набирать телефонные номера, пить кофе и делать тысячи других вещей. Заполнить пустую паузу, перейти пустыню молчания, преодолеть равнину времени, вырубить лесостепь непонимания, перейти десятки незнаемых стран, нас разделяющие. Буду спокойна и хладнокровна, начну беречь силы и экономить дыхание, размеренна в словах и жестах, медленна и скупа во взглядах, приобрету целеустремленную и методичную, как маятник, походку, отучу себя смеяться вслух и невслух, забуду читать стихи в метро и разгадывать лица прохожих, наложу вето на всякую музыку, истреблю все запахи памяти.