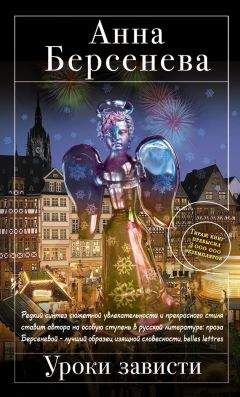Вышел высокий дядька с большой коробкой и цветами, выпорхнула Кристина, уже сменившая вечернее платье на форменную куртку вагоновожатой. Послала воздушный поцелуй залу: «Я люблю вас!», поцеловала дядьку, взяла у него коробку, и тут же опустила её на пол: «Не унесууу! Помогайте…»
Люба будто сама подняла её подарок, почувствовала тяжесть внизу живота и подступающую тошноту, испугалась, шагнула к Кольчугиной, шепнув: «Что-то мне плохо», передала ей микрофон и ушла за кулису. Там у пульта помрежа хватали друг друга за грудки Шалый и Вася Рыжик.
— Причём тут она? — хрипел Шалый в лицо Рыжику, притягивая его к себе. — Тронешь, урою!
— Ты мне бабки сперва верни!
— Жди! Вернул я тебе бабки! Чего ты на меня их вешаешь? — Шалый оттолкнул Рыжика на пульт. Тот грохнулся на него локтями. Шумно пошёл закрываться занавес, наводя переполох на сцене, засвистела публика в зале. Дима и какой-то мужичонка в комбинезоне и в очках подлетели к пульту, оттолкнули Рыжика, захлопали в четыре руки по кнопкам. Занавес стал разъезжаться в стороны, потом снова понес тяжелые полотнища в центр и опять потащил их в стороны, открывая взору развеселившегося зала налетающих друг на друга петухами Шалова и Рыжика.
…Люба, едва сдерживая подступающую тошноту, почти бежала по длинному коридору к туалету. У дверей её тормознула сидевшая на полу то ли девчушка, то ли пацанчик в сдвинутой на бок кепке и с большой холщёвой сумкой на груди:
— Тётенька, покурить не найдётся? — Голос оказался скорее мальчишеский.
— Пропусти! — крикнула Люба, оторвав от лица комок платка, которым зажимала рот.
— Ладно, беги, блюй, если перебрала… — Нехотя убрал ногу от двери. — Или залетела? — Зацепив грязной рукой, приоткрыл ей дверь.
Люба протиснулась в туалет, подбежала к крайней раковине, открыла холодную воду. Рвотный позыв согнул её к рыжим подтёкам раковины, но ничего, кроме противного рвотного звука не исторг из её глубины.
— Господи, что за мука! — пролепетала она, отплёвываясь желудочной слизью. — И надолго мне это?
Она прополоскала рот от горькой слизи, двумя пригоршнями воды остудила лицо и, почувствовав слабость в ногах, прижалась спиной к холодной кафельной стене. «За что это женщинам? Почему за счастье иметь детей они должны терпеть такие мучения? Кто всё это придумал?»
— Тёть, ты где? — заглянул в туалет пацанчик. — Выйдешь скоро? А то щас народ повалит…
Люба повернулась к зеркалу над раковиной. «Хороша!..» Тушь потекла… Губы смазаны.
Она привела себя в порядок и вышла в коридор, толкнув пацанчика дверью.
— Э, ты чего?! — заорал он на неё срывающимся голосом. — Чего делаешь-то, зараза!? — И Люба увидела, что на руках у пацанчика красные резиновые перчатки, и он выдирает из холщёвой сумки какую-то ручку, какую-то стеклянную трубу с блестящей крышкой… Сообразила, что это у него шприц, какой она видела однажды в «Кавказской пленнице». «Чего это он? Зачем ему шприц?» — подумала она и, почуяв недоброе в голосе пацанчика, ускорила шаг на выход из коридора.
— Э! постой! Чего скажу! — крикнул ей вслед пацанчик.
Люба машинально обернулась на крик и увидела, как из шприца в её сторону летит дымящаяся струя. Она инстинктивно прикрыла лицо руками и почувствовала, как что-то горячее впилось ей в лоб, потекло по рукам, остро, до рези в носу и в глазах запахло кислотой. Она побежала прочь от боли, от крика пацанчика, от мата, какой посылал он ей вслед. Высокие каблуки подворачивали щиколотки, и нестерпимо жгло шею и спину.
— За что?! — закричала она, пытаясь схватить пронёсшегося мимо неё пацанчика. Но он увернулся, бросив ей под ноги громко звякнувший шприц. — Помогите! Помо… — Подвернув ногу, она грохнулась на осколки шприца.
Видимо голос её, удесятерённый болью, долетел до закулисья дворца. Оттуда выскочили члены жюри, Кольчугина, Дима. Любу подхватили с пола, задёргали в разные стороны: «Кто тебя? За что? Откуда кислота? Врача скорей! Соды, соды кто-нибудь! Холодной воды скорее!..» Её подхватили под руки, потащили обратно в туалет, сунули головой в раковину под струю холодной воды, пригоршнями стали бросать воду на спину, с которой, разваливаясь на две стороны, спадало её лучшее платье.
В толпе нашёлся врач, оттолкнул всех от Любы.
— Срочно дайте кто-нибудь соды! — крикнул он в толпу. — И уберите отсюда лишних людей! И мыло, есть тут где-нибудь мыло? Любое! Лучше хозяйственное.
Кто-то сунул врачу найденный в суматохе надорванный пакет.
— Вот, написано «сода»!
Врач глянул на пакет и отбросил его обратно:
— В штаны себе насыпь этого!
Хлопая сапогами по кафельному полу, прибыла бригада «скорой помощи». Любу посадили на кушетку. Она запрокинула голову, теряя на грудь и на колени опадающие волосы.
Два молоденьких милиционера притащили орущего во всё горло, брыкающегося пацанчика. Поставили перед Любой.
— Посмотрите: он?
Люба открыла глаза. На пацанчике не было кепки, резиновых перчаток и холщёвой сумки. Но были крупные карие глаза, залитые слезами и ужасом.
— Не знаю… Кажется… — И потеряла сознание.
Белый-белый потолок. Белые-белые стены. Яркий жёлтый свет за белыми рамами окна, белый с жёлтыми пятнами бинт на руке. Белые халаты на людях, стоящих у кровати. Бесцветный огонь на лице и в спине…
— Душа моя, ты меня слышишь? — Это грубоватый голос Кольчугиной.
— Если водит глазами, значит слышит. Привет! — А это — Ефим.
— На два вопроса можете ответить, Любовь Андреевна? — Какой-то чужой голос.
— Я попробую… — Бесцветный огонь жжёт угол рта. — Зеркало… Зеркало есть? Дайте…
— Есть у тебя? Доктор, а ей сейчас можно видеть себя? — Это — Ефим.
— Думаю, ничего страшного… — Этот голос она уже где-то слышала.
— Это вам ничего, вы привыкли. Свет, есть у тебя какое-то зеркало? — Опять Ефим.
— Принесите наше… Давайте, я подержу. Вот так…
Жёлтый бинт закрывает лоб, щёку, подбородок. Много…
— Спасибо. Я так и знала… — И опять огонь жжёт рот, подбородок, лоб. Лучше не пробовать улыбаться…
— Любовь Андреевна, так это всё-таки был мальчишка? — Наклонилось к ней лицо мужчины с тонкими усиками.
— Мальчишка.
— Вот этот?
Фотография чуть расплывается в глазах. Надо бы прищуриться, но огонь жжёт всю левую сторону лица.
— Кажется…
— Он или кажется?
— Он… Кажется…
— На сегодня всё! Извините, завтра. — Рука в белом халате отодвигает в сторону все белые халаты, над которыми мерцают и расплываются лица Ефима, Кольчугиной, мужчины с тонкими усиками. Опять белый потолок, жёлтый свет. Летит к ней дымящаяся, остро пахнущая струя… Смеётся Серафима… Широко улыбается Сокольников… Зло сопит рыжий Степан, пытается поймать её широко распахнутыми руками… Кусает пухлые губы Ефим… Тишина. Серые сумерки ползут в белые рамы окна…
…Закрыв дверь палаты, пожилой завотделением ожогового центра, протирает платком очки, близорукими глазами смотрит на Шалого, слегка опустив голову, охватывает боковым зрением и остальных. Надо объясняться. Взрослые, вроде, люди, а будут сейчас задавать детские вопросы: «Доктор, это опасно?», «Сильно будет обезображено лицо?» А что им ответить? Рубить правду-матку? Нельзя надрывать людям нервы. Обнадёживать? Глупо в таком состоянии… Честно-то говоря, ожог обширный, местами высокой степени, но ведь бывало и хуже, тем не менее, люди выкарабкивались непредвиденно быстро. Здесь же, видимо, другая организация нервной системы. И понятно: была красавица, а что останется? Пересадки ещё никого не украсили…
— Ну, что я вам скажу? Конечно, рано мы допустили вас к больной… С другой стороны, увидеть близких… В общем, пересадка тканей прошла успешно. А дальше — будем надеяться… Извините, я должен… А вам можно будет приходить, только когда переведём в общую палату, — сказал доктор следователю. — Я и так нарушил всяческие правила, извините.
— А мне когда можно, доктор? — спросил Шалый.
— Тоже. Это касается всех.
— Скажите, а лицо у неё сильно пострадало? Она же у нас на экране…
— К счастью, нет. Но последствия налицо.
Доктор вздел крупные очки на нос, слегка поклонился окружившим его посетителям и пошёл навстречу торопящейся к нему по коридору медсестре.
Шалый положил руку на плечо следователю, приглашая того отойти чуть в сторону, спросил:
— А что пацан? Вы его допросили? Кто его так снарядил?
— Пацан нам известен. Вокзальный попрошайка, воришка. Балуется клеем. Пока валяет дурочку: крыс хотел разогнать, шприц нашёл во дворе ветиринарки, кислоту — там же. Кто послал поливать людей, молчит.
— Ну что, вы спросить не умеете?
— Малолетка. Ему одиннадцати ещё нет. На нём не разбежишься — прокурор голову отвернёт…