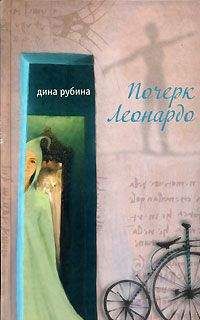Ознакомительная версия.
– Я обещала касательно Нюты! – с силой воскликнула Маша. – Но это не она, я же вижу! Нюты, может, давно уже нет! Это та, проклятая, проклятая! Из зеркала!
Анна отпрянула, попятилась…
Отец шагнул и крепко обнял дочь за плечи.
– Маша, Маша! – умоляюще воскликнул он. – Ради бога! Опомнись, это же Нюта, наша девочка! Она сейчас замечательная артистка! Если б ты видела, как люди ей хлопают, сколько радости, сколько восторга…
Господи, ну зачем он… неужели не видит, как прочно сидит безумие в этих одутловатых чертах.
– Ма… – проговорила она в отчаянии… и впервые в жизни: – Мама!
Машута вдруг оживилась, в глазах возникла острая ненасытная мысль:
– Вот видишь! – торжествующе сказала она мужу. – Видишь? Нюта никогда не говорила мне «мама». Это не Нюта, это ее проклятое отражение! Она и Нюту уничтожила, сожрала, теперь за мной пришла! Толя!.. Толя, скорее, разбей ее! Разбей ее!
Она уже кричала, брызгая слюной. Христина схватила ее сзади за локти, пытаясь совладать с дрожащими, кричащими руками. И отец кинулся к больной, крепко обнимая извивающееся тело.
Анна бросилась в прихожую, схватила куртку, шапку, сверзилась по лестнице вниз и так, с курткой в руках, бежала почти всю Жилянскую.
Наконец, пошла медленнее… медленнее… Остановилась, натянула куртку, долго не попадая в рукав, нахлобучила шапку и глубоко вдохнула морозную гарь привокзального района своего детства.
Глухое пасмурное небо зимнего дня было неумолимо заперто на все запоры.
Не отзывалось взгляду ни малейшим движением.
* * *
Вот с кем действительно повезло, так это с Нинкой, партнершей, разбитной соседкой по общаге. Такая мастеровитая баба оказалась – всякий раз заново изумляешься. И глаз у нее как-то так устроен, что из любой хламной кучи на прилавке любого сельмага, из картонных коробок с поломанными калейдоскопами выудит нужный шпенделек, стеклянные бусы, обрывки цепочек – и уже знает, куда пристроить, к какому лифчику, на какой лонжевой поясок, чтобы под пушками сверкало драгоценным камнем! Костюмы – деталь в номере немаловажная.
Вообще-то костюмы шили в цирковом пошивочном комбинате. Но чтобы получить разрешение на пошив, нужно было все ноги избегать по кабинетам главка. Тут мозоли наработаешь скорее, чем на тренировках.
Ну, и материю так просто не выцыганишь, она тоже разная для «белой» и «черной» кости. В цирке всюду блат нужен.
А тут Нинка. Все костюмы придумывает сама и сама же шьет. Какой окантовкой плащи отделала! Ездила куда-то в Подмосковье на птицефабрику, где ей за пятерик нагребли огромный облачный мешок белых куриных перьев.
Потом в цирковой гостинице они с Анной два дня их сортировали, отбирали пуховые… Сидели голые, облепленные пухом, в облаках легчайшего снега – чихали, ругались, проклинали жизнь, то и дело вскакивали и неслись под душ… Затем все вымыли, высушили феном… Анна придумала вклеивать перышки, легкие, как дыхание, в полоску лейкопластыря, и крутить ее вокруг карандаша. Получились пышные маленькие боа, которые Нина затем притачала по всему краю плаща.
И такие белые плюмажи над головами вознеслись на гибких металлических пластинках – и тоже из курочки. Колыхались-волновались, едва артистка склоняла голову к плечу… Знали бы давно съеденные несушки, какая блестящая сценическая карьера уготована их перышкам!
* * *
Премьера в городе – это всегда прерывистое дыхание, дрожащие руки; но всегда – и взрывной спазм радости под ложечкой, заводная невесомость тела. Свет ярче, музыка звонче, аплодисменты накрывают тебя с головой, как гигантская волна в сильный шторм…
Перед выходом разминаешься в закулисной части у форганга. Там обязательно висит большое зеркало. И – ритуал! – перед выходом на манеж каждый должен в него посмотреться со всех сторон, принять две-три позы, ведь через минуту тебя именно таким увидят сотни взыскательных глаз.
Анна не любила эти зеркала. Мусорными они были, взбаламученными. В глубине их клубилась фальшивая жизнь, оборотневые лица. Эти цирковые зеркала у форганга поглотили и переварили столько лжи, подлости, сплетен, предательства, лести; в них отражалось столько париков и накладных носов, фраков и смокингов, крахмальных жабо, вееров, мишуры, блесток, игры дешевых стекляшек… столько напудренных щек, наклеенных мушек, наведенных бровей, ярко-красных пиявистых губ – что отражали они уже кое-кого и кое-как и все были плоскими, истощенными и сухими.
Они требовали чрезвычайной осторожности: не разбить бы ненароком, взмахнув рукой или ногой. Очень плохая примета – посмотреться в осколок. Увидел свое отражение в осколке – беги, бери бюллетень.
И все же в них было главное: тот последний миг перед выходом к многоголовой, многоглазой орущей пасти: к публике. Публика! Бог, кесарь, судья, палач – Публика! Такой она тебя увидит? Такой она оценит тебя?
Господи-пощади-господи-спаси-и-помилуй!
Премьера в городе! С утра тебя колотит мандраж. А к началу представления ты и вовсе не чуешь тела. Протрешь ладони одеколоном, чтоб не потели, или чуть магнезией припудришь – и пошла! Стоишь на аппарате – ноги слабеют, в груди комок. Это нормально. И вот подходит твоя очередь: глубокий вдох, выдох. С силой сжать-разжать кулаки раза три-четыре. Внутренний приказ: воля! И на трюк уже выходишь спокойной и собранной. Разве что вокруг ничего не видишь, мир смазан, размыт, равнодушно плещется вдали…
И восторженный гул едва колышется, не долетая до сердца.
Но когда трюк уже отработан, ежедневно прокручен-привычен, когда своим телом владеешь, как опытный чтец-декламатор – голосом, тогда ты уже не выключаешься, уже видишь отдельные лица: там девочка с залепленным стеклышком очков, там усатый дядька, не снявший кепки. И слышишь все звуки, все привычные звуки цирка – чуть приглушенно, правда…
А номер отработала – и первые полчаса словно летаешь. Потом уже, конечно, усталость накатывает. Особенно по воскресеньям, после третьего представления… В гостиницу плетешься, волоча ноги, кое-как грим смыв. Огромный выброс энергии иссушает все жизненные соки. Опустошение… Шелестящая тишина мышц…
Ну, а восстанавливают организм – кто как. Кто из койки не вылезает до завтрашнего вечера, кто – за бутылку, как за спасательный круг, пока не упадет. Кто, вот как Володька, просто спит сурок-сурком, а проснувшись, лупит себе яичницу из двенадцати яиц. Подзакусит, как ямщик в трактире, и вновь – как огурчик.
* * *
Привычка Анны вылетать из гардеробной к форгангу чуть ли не в последнюю минуту всегда бесила Володьку – он, наоборот, время чувствовал сверхъестественно точно. Иногда спросишь его, который час, а он, и не глядя на руку, ответит с точностью до двух минут. Всегда раздражался, когда Анна «витала в облаках». Ну вот чего она там возится до последнего момента, когда ребята уже размялись и уже слышно, как клоунское трио Сокольничего завершает свою «Калитку»?
Если бывали свободны, они всегда выходили посмотреть эту репризу. Под музыку известного томного романса выбегала троица – верста коломенская Егор, исполнявший молодую вихлявую цыганку, сам коротышка Сокольничий в гриме и костюме старого цыгана с курчавой ассирийской бородой, и Витек, молодой цыган-гитарист. Романс исполняли втроем: вначале распевно, враскачку, надрывно… постепенно увеличивали темп, начинали приплясывать… И вскоре уже плясали на разрыв души и пяток, ломая в раже бутафорские скамейку и калитку.
Главное же, исполняли все с такими упоенными, вдохновенными, истовыми рожами! Публика валилась со стульев, слезы вытирала…
– Все, пошли! – бросил Володька и вышел. Их гардеробная была в двух шагах от форганга.
Анна закончила вычищать сапожки металлическим скребком, надела их, влезла еще в тапочки, накинула поверх костюма халат и вышла к форгангу. Там, перед красным бархатным занавесом, разогретые, сбросив колодки и халаты, ребята ждали, когда объявят номер.
Когда стоишь за форгангом и знаешь, что через мгновение твой выход, тебя словно рубильником переключают на другой энергетический уровень.
Все. Слышно, как с грохотом доламывают свою калитку раздолбаи Сокольничего.
В эту минуту из разных концов коридорной полутьмы возникли два музыканта. Один с футляром в руке – видно, отыграл положенное и направлялся в буфет. Другой, наоборот, шел из буфета, издалека крикнул, что сосиски сегодня вполне приличные, и поторопись, а то все сожрут, троглодиты… На что первый, приблизившись…
Почему так заметалось сердце? Что – отец? Почему – отец? Какой такой день рождения?.. Он как папа…
– Воз-душ-ные кана-то-ход-цы… – Это инспектор манежа Григорий Львович своим сорванным басом. – …Стрелецкие!!!
Вступила фонограмма их номера: плавные речные перекаты, романтическое море разливанное… Лучи – на форганг, мальчики-ассистенты распахивают занавес, и Анна с Ниной сквозь шеренги униформистов плавно ступают первыми, ребята – за ними.
Ознакомительная версия.