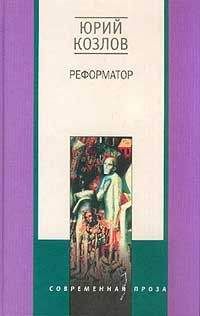Харизма Бога была тем очевиднее для Никиты, чем для других было очевиднее крушение Божьего плана устройства мира. Никите вдруг открылось, что есть настоящая верность. Не просто служить, но отдать жизнь за того, кого любишь. Пусть даже тот понятия не имеет о твоем существовании. И еще он подумал, что осмысленно отдавать жизнь за того, кого любишь — дело одинокое, не терпящее массовости, суеты и даже обсуждения с единомышленниками. Пожалуй, решил Никита, я один — все воинство, я есмь его альфа и омега, солдат и генералиссимус, барабан и сапог, победный и похоронный марш.
И еще он подумал, что неплохо бы наведаться в спеленутую осьминожьими бетонными щупальцами церковь внутри развязки. Вспомнив про церковь, Никита вдруг понял, что откуда-то уже знает про сегодняшние «часы», и что все это: езда на джипе по притихшей сиреневой Москве, разговор с Саввой, еще только предстоящее ночное возвращение домой и что-то еще — уже было. Он ощутил невозможное чувство тревоги (почему это повторяется?) и одновременно покоя, причем не простого, а, так сказать, мировоззренческого, если, конечно, иллюзию бесконечности (множественности) бытия можно считать покоем. Получалось, что утекая, жизнь (какие-то ее фрагменты) куда-то (во что-то) перетекала.
Бог общался с Никитой посредством «deja vu», то есть в жанре «уже виденного». Иначе, по всей видимости, и не могло быть в храме вне неба и внутри бетона. Чем-то этот храм напоминал первые — катакомбные — какие тайком ставили христиане на просторах Римской империи. Но если из тех храмов христианство победительно пошло по планете, то куда оно пойдет из… этого — посреди бетонной развязки? А может быть, подумал Никита, именно такие храмы и есть последнее прибежище Бога на земле? Если сквернословящая шпана изгнала его даже из искусства (прокуренной комнаты)?
Никита почувствовал, как он преисполняется твердостью сродни твердости оловянного солдатика, не подчинившегося, как известно, ни злому черту из табакерки, ни крысе, вознамерившейся проверить его паспорт. Бог — в смысле одна из миллионов его ипостасей — увиделась ему в образе одноногой, как и оловянный солдатик, бумажной балерины. И не мог Никита измыслить для себя счастья мучительнее и желаннее, нежели сгореть вместе с Господом своим в пламени… чего?
Никита подумал, что всем хороши часы Саввы, только вот нет в них полюбившегося ему огня, что «просиял над целым мирозданьем и в ночь идет, и плачет, уходя». Теперь Никита знал, в каком огне предстоит ему сгореть (воссоединиться) с Богом. Он понял, что часы Саввы — это отнюдь не часы истории, часы мирозданья, а сам Савва, часовой стрелкой прошедший по всему циферблату. И еще понял, что он, Никита — бесконечно малый винтик в других часах — Господа — и что он сделает все, от него (и не от него) зависящее, чтобы часы Господа шли как им назначено, а именно, через человеческое сердце, а не через умственное конструирование реальности, как часы Саввы.
«Ты спрашиваешь, где Бог? — услышал Никита трубный голос Саввы, хотя уже знал ответ: в храме посреди бетонной развязки и в его, Никиты, сердце. — Бог там, — ответил Савва, — где животворящая воля, где порядок, где малые сии находятся под неусыпным отеческим попечением, а не выброшены на мороз, яко лишние щенки, али старые изработавшиеся псы. — Отчего-то Савва заговорил витиевато и с сомнительными покушениями на старинную образность, когда, вероятно, собаки занимали в жизни человека более важное место, а может, наоборот, человеческая и собачья жизнь не сильно друг от друга отличались. — А знаешь, где Бога нет? — продолжил он уже скучным (современным) голосом. — Где распад, разложение, печаль, где часы, которые я придумал, идут, как если бы их завод был вечен. Бога нет там, где свобода. Полная и окончательная, как смерть».
Девятый час предстал в образе молодых и не очень людей в золоте, в перстнях, дорогих сорочках, тысячедолларовых ботинках, при непростых, посверкивающих бриллиантами часах и крохотных (как они ухитрялись набирать толстыми пальцами длиннющие номера?) мобильных телефонах. Одна стена часа-сектора была сплошь в богатых иконах-новоделах. У Никиты не было ни малейших сомнений, что иконы написаны по заказам этих отнюдь не бедных людей. Он примерно представлял себе, что это за люди, и не сомневался, что фонд «Национальная идея», где они в данный момент находились, не мог существовать без (по крайней мере финансового) их участия.
Люди между тем почти вплотную подходили к сочащемуся золотом, киноварью, кобальтовой синевой иконостасу, подносили руки ко лбам, желая перекреститься, но какая-то сила не позволяла им это сделать, как если бы иконостас и эти люди были одинаково заряженными, а потому отталкивающими друг друга кусками металла.
Отступив, они пристально и с недоумением вглядывались в написанные и освященные за их деньги иконные лики и библейские пейзажи, как будто хотели с их (оплаченной) помощью прочитать будущее и навсегда забыть прошлое, но, судя по тоске на лицах, ничего не могли там прочитать (и, следовательно, забыть), а если что-то и могли, то прочитанное (и не забытое) их отнюдь не радовало.
«Наша, так называемая, элита, овладевшая достоянием страны, — пояснил Савва. — Она образовалась из трех источников, трех составных частей: прежней власти, криминала и дурного, возникшего в последние годы СССР, бизнеса, основанного исключительно на ущербности тогдашнего внутреннего рынка, готового сжирать любые объемы дешевого иностранного ширпотреба, а также на разнице внутренних и мировых цен на все, что можно было вывезти. Я не знаю, как точно охарактеризовать этот час, — замялся Савва, и Никита понял, что брату больно (пусть и виртуально) хоронить этих стремительно старящихся людей с неизбывной тоской в глазах, потому что и он кормился их щедротами, как воробей клевал крошки со стола, за которым эти люди расправлялись с цельнозапеченной, щедро политой водкой, вином и пивом тушей национального достояния. — Наверное, как “час в себе”. Видишь ли, — добавил Савва, — этот час принципиально не переходит в следующий, вообще ни во что не переходит, он как бы вне времени, но… в пространстве, постсоветском пространстве».
«Длится вечно?» — ужаснулся, как и большинство жителей России, искренне ненавидящий этих, ограбивших народ людей, Никита.
«Не думаю, — ответил Савва, — скорее, не имеет естественного и закономерного продолжения. В смысле, все, что сделали, чего добились, — если, конечно, данный термин здесь уместен, — эти люди уйдет, пресечется, завершится вместе с их физической жизнью».
«И доллары?» — изумился Никита.
«Доллары прежде всего, — без тени сомнения объявил Савва. — Нет вечных денег, и доллары здесь не исключение. Все знают, что скоро им конец, но никто не хочет верить, потому что доллары… у всех. В разных, естественно, количествах, — спохватился Савва. — Это как раз тот случай, когда пророчествовать бесполезно».
«Но почему?» — спросил Никита.
«Потому, что они тянули одеяло на себя, действовали в собственных и ничьих более интересах, — ответил Савва. — Мир же пока еще устроен так, что если человек чего-то добивается, что-то приобретает исключительно для себя, все это — материальное и нематериальное — с ним же уходит. Но есть, конечно, — добавил после паузы Савва, — и другое толкование этого часа. Видишь ли, в основе приобретений этих людей лежит запредельное, такое, что они и сами его не могут осмыслить, отступление от добродетели. Демонтаж системы осуществлялся таким образом, что вся так называемая элита замарана (смертельно облучена) нищетой народа, кровью конкурентов, разрушением государства. Они — гнусные неумехи и дилетанты — влезли в советский ядерный реактор и взялись свинчивать с него детали из ценных металлов, чтобы продать их по дешевке за границу. Вот почему эти люди обречены, даже если будут переливать себе кровь, пересаживать спинной мозг каждый день. Их белоснежные сорочки пропитаны гнилью и тленом, глазированные кирпичи их загородных дворцов скреплены дерьмом и гноем, под парчовыми обоями их спален смердят рубища бомжей. В концертном зале в музыке, исполняемой изысканными оркестрами, им будет слышаться надрывный вопль слепого вокзального аккордеона. В опере вместо хрустального меццо-сопрано — голодная ария пенсионерки в кафельном предбаннике сортира. Вот почему им нет, не будет и не может быть прощения от Бога, который, как известно, прощает все, за исключением больших слез “малых сих”…» — закончил, как воодрузил над толпой красное пролетарское знамя, Савва.
«Нет прощения? — усомнился Никита. — Где нет? Где нельзя проверить — там, может, и нет. А в земной жизни — еще как есть. Да история человечества скользит по слезам “малых сих”, как колумбова каравелла “Санта-Мария” по Саргассову морю»!
«Я сказал, нет прощения от Бога», — уточнил Савва.