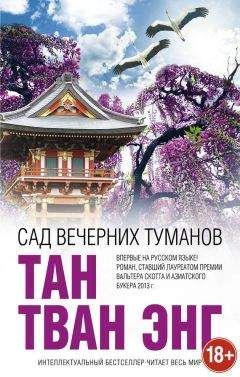– Люди полагают, что он пропал всего лишь раз в жизни, но я думаю, что это не так, – говорит Тацуджи. – Он сделал это дважды. В первый раз – когда уехал из Японии до того, как началась война на Тихом океане. Никто не знал, куда он направился и чем с тех пор занимался, пока он не объявился в этих горах.
– Послушайте, сегодня всем известно, что задолго до войны повсюду в Малайе сидели японские шпионы, работавшие портными, фотографами, владевшие небольшими предприятиями. Только ведь они-то жили – в городах, Тацуджи, в местах, имевших хоть какую-то стратегическую значимость для вашей армии. Аритомо жил тут. Тут! – я со стуком впиваюсь костяшками пальцев в деревянные перила. – Он спрятался ото всех в своем саду.
– И коли уж на то пошло, – добавляю я, – если он по-прежнему работал на Японию, то почему оставался в Малайе еще долго-долго после конца войны? Почему он так и не вернулся на родину?
Тацуджи молчит, его глубокомысленный взгляд говорит мне, что он с разных сторон изучает мои слова.
– Тацуджи, что вы делали на войне?
Мгновенное замешательство.
– Я был в Юго-Восточной Азии.
– Где в Юго-Восточной Азии?
Он переводит взгляд на цаплю, осторожно выбирающую себе путь среди лап лотоса.
– В Малайе.
– В армии? – Голос мой ужесточается. – Или в Кэмпэйтае?
– Я служил в летной части имперского военно-морского флота. Я был летчиком. – Он слегка отстраняется от меня, и я замечаю, как нелегко ему дается самообладание. – Когда начались воздушные налеты на Токио, мой отец перебрался на свою загородную виллу. Я еще учился в академии, готовившей летчиков. Я был единственным ребенком. Мать умерла, когда я был еще мальчишкой. Я приезжал к отцу всякий раз, когда удавалось получить отпуск на несколько дней.
Он закрывает глаза и открывает их мгновение спустя.
– В нескольких милях от нашей виллы располагался трудовой лагерь. Военнопленных свозили со всей Юго-Восточной Азии работать на угольных шахтах за городом. Всякий раз, когда кто-то совершал побег из лагеря, мужчины в деревне создавали поисковые отряды. Однажды на выходные, когда я гостил у отца, я увидел, как они шли – с охотничьими собаками, с палками и всякими сельхозорудиями. Они делали ставки: кто первым отыщет сбежавших заключенных. «Охота на кроликов» – так они это называли. Когда беглецов ловили, их приводили на площадь возле деревенской ратуши и били.
Он смолкает, потом добавляет:
– Однажды я видел, как кучка подростков забила пленника палками до смерти.
Долгое время оба мы храним молчание. Он поворачивается ко мне и отвешивает мне такой глубокий поклон, что, кажется, – вот-вот на ногах не устоит, упадет. Снова выпрямившись, говорит:
– Я прошу прощения за то, что мы с вами сделали. Я глубоко скорблю.
– Ваше извинение лишено смысла, – говорю я, отступая от него на шаг. – Для меня оно не имеет никакой цены.
У него плечи будто сводит. Я жду, что он уйдет от павильона. Но он – вот он: стоит, не двигаясь.
– Мы и понятия не имели, что натворила моя страна. Мы не знали ни о массовых зверствах, ни о лагерях смерти, ни о медицинских экспериментах, проводившихся на живых узниках, ни о женщинах, принуждаемых прислуживать в армейских борделях. Вернувшись домой с войны, я отыскал все, что смог, о том, что мы сделали. Именно тогда у меня появился интерес к нашим преступлениям: хотел заполнить молчание, душившее каждую семью моего поколения.
Продирающий меня до костей холод проникает в кровь: я едва сдерживаюсь, чтобы не потереть руки. Меня грызет что-то сказанное им раньше.
– Те ребята из деревни, – говорю я, глядя ему в самую глубину зрачков, – вы ведь были с ними, когда они истязали узников, так ведь? Вы принимали участие в избиениях.
Тацуджи поворачивается ко мне спиной. Секунду-другую спустя глухо доносится через плечо сказанное им:
– Охота на кроликов.
Начинается слабый дождь, от которого по всей коже пруда побежали мурашки. В ветвях над павильоном какая-то птица знай себе каркает да каркает, повышая голос на три тона. Мне надо рассердиться на Тацуджи. Мне надо попросить его покинуть Югири и никогда больше сюда не возвращаться. К своему удивлению, я испытываю к нему одну только жалость.
Дожди не дали глине, выстилавшей ложе пруда, хорошенько просохнуть, но все же однажды утром Аритомо объявил, что пришло время заполнить пруд.
Мы разровняли последний слой щебня и песка поверх глины: ложе углублялось ближе к шести стоящим камням, которые мы вкопали в центре. За неделю до этого мы направили поток в водосбор рядом с прудом. Орудуя лопатой, я разрушила стенку нижней запруды. Вода хлынула в пруд, собирая воедино уже образовавшиеся в нем лужи. Когда водовороты угомонились, часть неба стала потихоньку воссоздаваться на земле – вода поглощала облака.
– Уровень воды должен быть точь-в-точь, – наставлял Аритомо. – Слишком низко или слишком высоко – и это навредит образу павильона. В нем не будет гармонии с высотой кустарника, высаженного вокруг пруда, или с деревьями позади кустарника, или даже с горами.
– Не уверена, что понимаю.
Взгляд Аритомо перемахнул через пруд.
– Закройте глаза, – велел он. – Я хочу, чтобы вы вслушались в сад. Вдохните его в себя. Отсеките свой разум от постоянного шума в нем.
Я повиновалась ему. Под моими ресницами затрепетал захваченный веками свет и постепенно померк. Тише сделалось журчанье воды, заполнявшей пруд. Я вслушивалась в ветер и воображала, как пролетает он от дерева к дереву, от листа к листу. Мысленно видела крылья какой-то птицы, волнующие воздух. Я следила за листьями, что с самых верхних веток по спирали слетали на поросшую мхом землю. Я вдыхала запахи сада: только-только распустившейся лилии, тяжелых от росы папоротников, коры какого-то дерева, крошащейся снизу под ненасытным приступом термитов и пахнущей пудрой с оттенком сырости и тления. Времени не существовало: я представления не имела, сколько прошло минут. И чем вообще было время, как не просто ветром, что не стихает никогда?..
– Когда вы снова откроете глаза, – донесся откуда-то издалека голос Аритомо, – взгляните на мир вокруг себя.
Взгляд мой заскользил по воде к живой изгороди из камелий, к деревьям, вздымающимся до гор, к горам, уходящим в складки облаков. Взгляд мой совсем не знал покоя, подолгу оставаясь на чем-то конкретном – нет, он охватывал все сразу. В тот единый миг я поняла, чту он хочет от меня, чту мне необходимо постичь, чтобы стать таким садовником, каким сделал себя он, потратив на это целую жизнь. В первый раз ощутила я себя внутри живой трехмерной картины. Мысли мои выстраивались с трудом, выражая лишь тонюсенькие пласты того, что схватывали мои инстинкты, а потом ускользали.
Из самой своей глубины душа исторгла вздох, в котором слились наслаждение и печаль.
Уровень воды я замеряла ежедневно. Когда она поднялась достаточно высоко, мы запустили в нее лотосы и посадили вдоль кромки берега тростник. Еще Аритомо запустил в воду кои[177], купленных у селекционера в Ипохе. Примерно через неделю после того, как мы начали заполнять пруд, он велел мне принести из кладовки с инструментами моток медной проволоки. Я привезла его на тачке и уложила у пруда. Пустив в ход кусачки, он нарезал медь на коротенькие проволочки, показал, как из них сплетать шары величиной с кулак, и предоставил мне заниматься этим.
– А зачем они? – спросила я, когда он вернулся, а рядом со мной высилась кучка из четырех десятков шаров, похожих на плетеные мячи сепак такро, в которые играют дети в каждом кампонге и на каждом школьном дворе.
Он подобрал один шар и закинул его далеко в воду. Медь тут же пошла на дно, распугивая рыбу.
– Медь не дает расти водорослям.
Мы обошли пруд по кругу, разбрасывая медные шары. Уже почти закончили, когда Аритомо остановился и поднял лицо к безоблачному небу. Пальцем дал мне знак молчать, словно я заговорить собралась. Я проследила за его взглядом, но сначала ничего не заметила. Потом высоко-высоко в небе от слепящего полотнища солнечного света отделилась птица и стала быстро снижаться, кругами заходя все ближе и ближе к земле, и скоро я различила цаплю в наряде из дымчатых серо-голубоватых перьев. Прочертив над прудом сияющий ореол, она ринулась вниз, заскользила над водой наперегонки со своим отражением, летя так низко, что мне показалось, будто ее отражение вот-вот вырвется с поверхности на свободу. Взмахнув крыльями, птица приземлилась на мелководье, рябь от нее кругами разошлась по всему пруду.
– Аосаги[178], – произнес Аритомо, и в голосе его звучало удивление. – Никогда не видел ее здесь прежде.