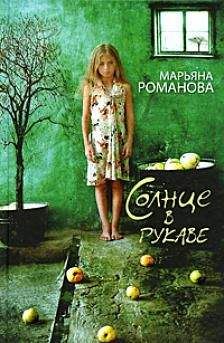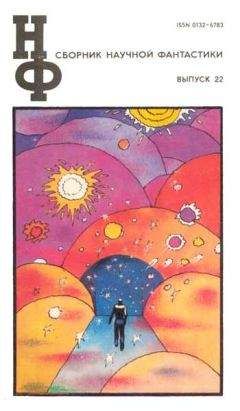Она была обычной немолодой женщиной – с легким варикозом, суховатой шеей, бледным валиком жира на животе и осенними желтеющими пятками, и весь вечер Павел Антонович думал, что в их возрасте трудно быть страстными. Однако стоило волшебной женщине, щелкнув выключателем, с какой-то детской пластикой стянуть через голову платье, как время потеряло значение, и темная кровь потекла давно не хоженными потайными тропами к центру его вселенной. И все было так, как бывало в его жизни (не сегодняшней, а той, которую он считал условно прошлой) сотни раз. А потом они курили в постели, как герои мелодрамы, режиссеру которой не хватает фантазии на нетривиальные ходы. А потом босиком стояли на балконе, встречали рассвет, и ее запах – пыльноватые духи «Ангел», вишневые сигариллы и распаренная кожа – почему-то казался почти родным.
Еще через две недели Павел Антонович решился предложить ей оптом все и сразу, что он мог предложить женщине в принципе. Руку, сердце, место на левой половине кровати, купленные на пенсию сочные тюльпаны, вечера у мерцающего телеэкрана, зимний Суздаль и летний Геленджик.
И женщина – немолодая женщина, которую не портило увядание, – приняла все эти скромные дары с благодарностью.
– Мама, что значит – ты выходишь замуж?
Беспомощная улыбка, орлиный размах разведенных рук, ветер треплет кокетливую челку. И слова, которые она говорила дочери сотни раз, с одной и той же раздражающе блаженной улыбкой, с одной и той же интонацией:
– Он тебе понравится. Мы решили сдавать наши московские квартиры, а жить на его даче, под Коломной. Еще и деньгами тебе будем помогать.
Тамара Ивановна не понимала, что в эту минуту в Надиной голове словно захлопнулась невидимая дверь, превратив мир из бескрайнего цыганского поля в тесную тюрьму.
– Мам, но вы знакомы всего ничего.
– Ты же знаешь, я всегда полагаюсь на интуицию. И люблю спонтанные решения.
– Мне почему-то хотелось верить, что с годами ты поняла – интуиция у тебя хреновая.
Мама не обиделась. Она, возможно, была неисправимой эгоисткой, ну уж никак не черствым сухарем. Можно ли обижаться на бледную беременную женщину, увлажнившиеся глаза которой походили на протухшие лесные болотца?
– Мы же договаривались. Мы же планировали. Ты, значит, готова поселиться на даче под Коломной с первым встречным, в тот момент, когда мне так нужна помощь! Впервые в жизни помощь нужна. – Надя погладила себя по животу, будто пыталась успокоить ребенка, хотя тот невозмутимо спал, не чувствуя ее взвинченного настроения.
– Павел Антонович – не первый встречный. Павел Антонович – мое все. – Мама едва ли понимала, насколько оскорбителен вкус ее спонтанных признаний.
– Но почему нельзя подождать? Просто подождать – три-четыре месяца. – Надя, конечно, понимала, что диалог становится похожим на потерявшую вкус дешевую польскую жвачку, но зачем-то по инерции, без надежды на чудо, продолжала уговаривать. – Если он твое «все», он никуда не убежит.
– Наденька, мне уже не тридцать и даже не сорок, – грустно улыбнулась мама. – Это от тебя жизнь не убежит, а от меня – умчится галопом, стоит только отпустить. И мужчин у женщин моего возраста уводят только так. Сама знаешь, сколько в Москве хищниц.
Это многозначительное «сама знаешь», замешанное в коктейль с по-совиному округлившимися глазами, видимо, намекало на ту женщину, о которой Надя старалась не думать вовсе. Леру.
Она все-таки не выдержала:
– Да кому он нужен, твой псориазный хрен?!
Мамино снисходительное печальное спокойствие было обиднее оплеухи. Надя почувствовала себя жалкой.
Да, она жалка – настолько, что на нее невозможно обидеться даже в том случае, если она спляшет пасадобль на чьей-то кровоточащей мозоли. Ее все равно пожалеют, погладят по голове, а потом уйдут в свою уютную жизнь, оставив ее, маленького грустного воина, наедине со стоглавым кровожадным чудищем, которое еще не выпустило стальные когти, но уже жадно принюхивается, вытягивая шею навстречу жертве.
Надя не поступила в текстильный институт.
Экзамены запомнились эйфорическим пунктиром. На других абитуриентов, своих соперников, она смотрела почти с обожанием, снизу вверх. Они были похожи на обитателей ее детства – художников, за которыми Надя так любила наблюдать в мастерских Бульварного кольца и на которых она так мечтала быть похожей. Они были ее ровесниками, но в свои шестнадцать Надя – дитя, а они все – такие свободные и взрослые. Как будто были взращены на другой плодородной почве, напитаны свободой так, что она сочится теперь из каждой поры, намекает о себе каждым поворотом головы и кокетливым взмахом самодельных серег. Бранные слова, которые Надя привычно считала стыдными для озвучивания, они вставляли в дерзкий ток речи настолько изящно, что хотелось улыбаться и аплодировать. Пространство, которое, казалось, было особенно к ним дружелюбно, – эти дети садились прямо на асфальт, скрестив ноги и продолжая болтать; жестикулировали, как глухонемые; громко смеялись. Они настолько ясно представляли свое место в мире. У Нади – мечты, фантазии, у них – четкие планы. Они были такими серьезными и даже категоричными, но при этом не казались смешными.
Разве могла Надя противопоставить этой энергии свой скудный опыт – опыт нищей мещанской девочки не без амбиций? Вот есть старые джинсы и есть моток выцветшей кружевной тесьмы. Надо так переставить слагаемые, чтобы на выходе получилось нечто, что можно носить в школу без риска стать объектом насмешек одноклассников.
Не найдя свою фамилию в списке, Надя, конечно, расстроилась, но все же решила, что это справедливо. Они – достойны, она же – могла рассчитывать только на удачу. Но ей не повезло.
Был июнь – тополиный пух, душное марево, стертые ноги и огромные очереди у квасных бочек. Надя зачем-то приехала не в Ясенево, к бабушке, а в Большой Палашевский. Но матери дома не оказалось, а своих ключей у Нади не было. Вот и стояла посреди улицы – дура-дурой. Жмурилась на солнце. Одинаково сильно желала холодной минералки и сдохнуть от жалости к себе. Что она теперь будет делать? Впереди – год, пустой и никчемный. Готовиться ко второй попытке? Но, во-первых, сможет ли она за год стать такой же яркой и богемной, как почти все, с кем ей удалось познакомиться на экзаменах? А во-вторых (и это главное), на что она будет жить этот год? Бабушка ясно дала понять – финансово поддерживать идиотские идеи она не намерена. На маму рассчитывать тоже не приходилось – слишком ненадежна, деньги ей руки жгут, как только появляются – сразу спускаются на чулки и туфли.
У нее была таксофонная карточка – позвонила Марианне.
Марианнин мир взорвал телефонную трубку громкой музыкой и сочным смехом. Вечная попрыгунья-стрекоза, конечно, никуда и не думала поступать – вот еще, тратить нежность своих шестнадцати лет, одну из самых бьющих под дых вёсен жизни непонятно на что – зубрежку, библиотеку, репетиторов, ложный адреналин крысиного забега. Высшее образование – для обычных людей, а ее, Марианну, и без того ждет блестящее будущее. В то лето у нее случился роман – сейчас Надя уже и не помнила, с кем именно, но это точно был кто-то взрослый, бесшабашный и богатый, по крайней мере по меркам неискушенной школьницы.
– Я не поступила, – кричала Надя в трубку. – Слышишь меня? Не поступила!
– Что? – смеялась Марианна, и по тембру смеха становилось понятно, что это, скорее, не естественная реакция, а поза, «вот_как_чертовски_очаровательна_я_когда_хохочу». – Аааа! Валер, отстань, не трогай меня… Надь, прости, ко мне Валерка заехал, родителей нет. Что там у тебя?
– Я не поступила в институт. – Надя вдруг почувствовала, что сейчас расплачется, впервые за весь день.
– И все? – Новая порция серебряного смеха. – Нашла чему печалиться… Мы с тобой работать пойдем!
– Что? – Надя на всякий случай подула в трубку: слово «работать» казалось несовместимым с образом подруги. – Куда работать?
– Не на завод, разумеется! Есть отличная вакансия – младшие продавцы в магазин парфюмерии. Потом расскажу. Двоюродная тетка моя открывает магазин такой. Там и работы-то – сидеть в хороших костюмах в красивом помещении. Покупателей нет почти. А платят нормально.
– Но я не хочу быть продавщицей. Я модельером быть хочу.
– Ладно, Надюш… Мать на три часа всего ушла, войди в положение. Потом поговорим. – И Марианна отключилась, а Надя снова осталась на солнечной улице одна.
Правда, ненадолго – ее заметила появившаяся со стороны Патриарших мать. Тамара Ивановна, как всегда, была смешлива и легка – в шифоновом сарафане, с взбитыми в пену кудряшками, в облаке жасминовых духов. Она вприпрыжку подбежала к дочери и чмокнула ту в нос. В мамином присутствии солнце сияло ярче.
– Ребенок, а что ты тут делаешь? Мы разве договаривались?
Надя покачала головой. Ее покрасневший нос (все-таки всплакнула) и понурые плечи остались вне зоны маминого внимания. К Тамаре Ивановне негатив не лип, она предпочитала концентрироваться на хорошем. В детстве Надя считала, что это дар, потом – что наказание. Возможно, это было и тем, и другим. Как в «Том самом Мюнхаузене» – смех удлиняет жизнь тому, кто смеется, а не тому, кто шутит. Для мамы – дар, она всегда словно в воздушном шаре, наполненном веселящим газом. Для окружающих – боль, а как иначе, если тебе плохо, а самый близкий человек легкомысленно смеется в лицо?