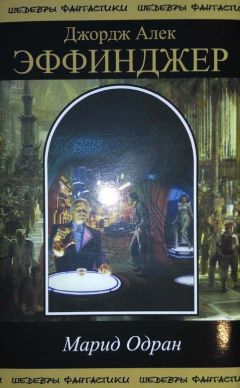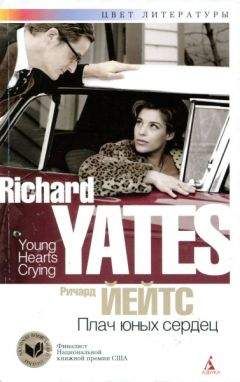— Она что-нибудь сказала? — спросил я по дороге в больницу.
— В смысле?
— Какие были ее последние слова?
— Я не знаю, — помешкав, ответил Кристиан.
— Разве ты их не слышал?
— С ней никого не было.
— Как не было? Когда ей стало плохо, рядом никого не было?
Кристиан молча следил за дорогой. Он был очень аккуратный водитель: руки на руле в позиции «десять и два», взгляд на дорогу. Норвежский, видимо, стиль. Ирландцы за рулем едят и смотрят переносной телик.
— Кажется, никого.
Я помолчал.
— Сколько прошло времени, прежде чем ее нашли? — спросил я.
— Наверное, несколько часов. Другая уборщица пришла и увидела ее на полу. Она и вызвала «скорую».
Я слушал и старался представить эту картину: моя бедная мать распростерлась перед алтарем церкви Доброго Пастыря, из нее по капле утекает жизнь, глаза ее закрываются, сгущается тьма, дыхание угасает, накатывает паника, а затем снисходит удивительный покой. В свое время все мы это изведаем.
— Тогда откуда ты знаешь, что она не мучилась? — выкрикнул я излишне громко, ибо Кристиан меня прекрасно слышал.
Еще долгое время я, проснувшись утром, не сразу вспоминал, что мамы больше нет. Сегодня, что ли, позвонить? — думал я. Может, ей что-нибудь нужно? Мы условились о звонке или можно еще денек-другой проволынить? А потом я вспоминал, и всякий раз это было как удар под дых, я прятал лицо в ладонях и стонал, охваченный доселе не изведанным одиночеством. Почему я уделял ей так мало времени? Ужасно осознать себя плохим родителем, но еще страшнее понять, что ты — неблагодарное чадо. Я гнал от себя эти мысли, чрезвычайно опасные для таких, как я.
Мы с Томом Кардлом вместе отслужили панихиду. Из Уэксфорда его уже перевели в Трейли, но он приехал, и я, расстелив спальный мешок на диване, устроил его в своем школьном кабинете. Как в старые времена, сказал я. Словно мы опять в семинарии, только без всякой Великой тиши. Можем болтать хоть ночь напролет.
Том приехал впритык, однако перед службой поговорил со мной и Ханной, выспрашивая семейные детали, которые смог бы использовать в своей проповеди. Он хотел, чтобы все вышло ладно, и держался очень сочувственно.
Я никогда не видел его таким одухотворенным и чуть не фыркнул, когда он возложил руки на плечи моей сестры и озабоченно заглянул ей в лицо. Они были уж сто лет как знакомы, хотя чаще друг о друге слышали, чем встречались, но Ханна, человек совсем не религиозный, к Тому относилась хорошо — наверное, оттого, что он был моим лучшим другом, а меня она любила. Да, сестра приводила детей на воскресные мессы, но, думаю, это делалось ради галочки, во избежание толков. Не сказать, что в ней жило глубокое неприятие Церкви — нет, просто равнодушие. Эйдан уже получил причастие и ждал конфирмации, приближалась очередь Джонаса.
Панихида прошла по-деловому. Том очень старался, и я сказал несколько слов, но никто не выказывал своих чувств, разве что Эйдан и Джонас, любившие бабушку. Ханна казалась слегка ошарашенной, и лишь когда Том помянул маленького Катала, она подняла взгляд и прижала ладонь ко рту, словно ужаснувшись происходящему.
Мне было страшно смотреть на гроб.
Похороны меня взбаламутили.
Поминки устроили в доме Ханны. Народу было много. В кухне мамины коллеги-помощницы спорили за право приготовить чай и подать двум священникам в гостиную. В соседней комнате орал телевизор — мужья помощниц смотрели футбол. Один закурил сигару, когда его команда забила, и жена его, учуяв запах, ему попеняла: как не стыдно, бедняжка миссис Йейтс еще толком не устроилась в могиле, а он уж воняет табачищем, как будто празднует Рождество. Провинившийся муж одарил супружницу таким взглядом, словно охотно ткнул бы сигарой ей в глаз, но при людях смолчал и безропотно прошел в кухню, где под краном погасил окурок и, завернув его в салфетку, спрятал в карман.
— Вы уж простите, отче, — извинилась жена бедокура, но я лишь пожал плечами: да ничего страшного. По мне, пусть курит. Дом не мой, и если хозяева не возражают, то я и подавно.
Как всегда бывает на поминках, почтительная скорбь постепенно сменилась весельем. Мы с Томом присоединились к мужчинам, расправлявшимся с парой упаковок пива, которые Кристиан достал из холодильника, а женщины, угощаясь сладким вином и хересом, говорили о том, что маме понравились бы ее проводы, хоть ветчину надо было брать в другом магазине и свой салат гораздо вкуснее покупного.
— Что будем делать с домом? — спросил я Ханну. Наверное, я слишком поторопился с этой темой, но сестра, похоже, не возражала.
— Я думаю, продадим, — сказала она. — Сейчас недвижимость в цене. А уж такой-то дом в Чёрчтауне. Ты представляешь, сколько он стоит?
— Нет, — ответил я.
Такие вещи меня не интересовали. В газете я читал, что цены на жилье взлетели, а в хорошем районе были просто бешеные, но не придавал этому значения. Мне это было безразлично. Но вот сестра назвала сумму, и я, опустив стакан, уставился на нее как на ненормальную.
— Разыгрываешь? — спросил я.
— Это как минимум, — вмешался Кристиан. — При хорошем спросе можно получить процентов на двадцать больше. Правда, часть уйдет на комиссионные агенту, налог на наследство и прочее. Но все равно останется куча денег. Извини, — поспешно добавил он, смутившись, что выглядит хапугой. Но меня это ничуть не задело — я знал, что Кристиан равнодушен к деньгам.
— Невероятно.
— Чем скорее выставим на продажу, тем лучше, — сказала Ханна. — Незачем тянуть, а то еще заявятся вандалы, прослышав, что дом пустует.
— А как все это делается?
— Если хочешь, я этим займусь, — предложил Кристиан. — Но коль предпочитаешь обойтись своими силами — ради бога.
— Я был бы очень признателен, если б ты за это взялся, — подумав, сказал я. — В таких делах я ничего не смыслю.
— Отлично. Положись на меня, я все устрою.
— Деньги поровну? — спросила Ханна, и я подумал, что это, видимо, хмель сподвигнул нас на тему, столь неуместную на поминках.
— Зачем мне такая уйма денег? — сказал я. — Мне столько не нужно.
По взгляду Ханны я понял, что в общем-то она со мной согласна, но не хочет меня обирать. Однако у нее семья, ипотека. Два сына, которых надо обиходить. Расходы на школу. Позже — на университет. Ежегодные поездки в Лиллехаммер и обратно. Я же не имел таких забот. Я был один на всем свете.
— Пригодятся, — сказала сестра. — Положишь на счет.
— Нас ведь пятеро, так? — прикинул я. — Ты, Кристиан, Эйдан, Джонас и я. Значит, я возьму пятую часть. Больше мне не надо. Отложу на старость.
— Четверть, — сказал Кристиан. — Мне ничего не нужно.
— Ладно, потом разберемся, — решила сестра, глянув на Эйдана, с гитарой маячившего в дверях. Ему не терпелось выступить перед публикой в соседней комнате.
Кристиан покачал головой:
— Сегодня не стоит, Эйдан.
— Ничего, пусть поднимет нам настроение, — сказал я, и мы перешли в гостиную.
Эйдан уселся и запел «Печать поцелуя»[33]. Уморительное зрелище, когда восьмилетний малыш, прикрыв глаза, обещает безымянной возлюбленной говорить о своей страстной любви к ней в ежедневных письмах, запечатанных поцелуем. У Эйдана был приятный голосок, и он наслаждался всеобщим вниманием, а вот Джонас сидел в углу и, уткнувшись в похождения Бобби Брюстера, надеялся, что его не призовут выступить с каким-нибудь номером. Закончив песню, Эйдан объявил, что, если нам угодно, он готов продемонстрировать свои навыки в степе. Мы выразили желание, и мальчуган, сбегав за фанерой, принялся отбивать чечетку, что твой Фред Астер, только без фрака и цилиндра. Что и говорить, парнишка он был заводной.
Позже я зашел в кухню и застал его за беседой с Томом Кардлом.
— Долго учился степу? — спросил мой друг.
— Всего несколько месяцев, — ответил Эйдан. — Но учитель говорит, я далеко пойду.
— Далеко? Это куда же? В «Олимпию»?
Эйдан отшагнул и раскинул руки, точно знаменитый конферансье Ф. Т. Барнум:
— Вест-Энд! Бродвей! Талант не знает границ!
Я вспомнил, что много лет назад нечто подобное говорил мой отец, и мне стало очень грустно, а Том буквально затрясся от смеха:
— Нет, он просто чудо! Сейчас рассказывал, какие программы смотрит по телику. Говорит, мечтает попасть на телевидение.
— А ты глаза себе не испортишь? — спросил я. — Странно, что мама разрешает тебе смотреть телевизор.
— Она говорит, вечером можно одну программу, а в выходные — сколько влезет.
— Везет тебе, — сказал Том. — В твои годы я так не роскошествовал.
— У вас не было телика?
— Нет.
— Почему?
— Не могли себе позволить. И потом, отец не доверял телевизорам. Говорил, не дай бог эта штука взорвется и спалит дом.