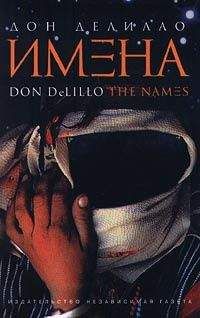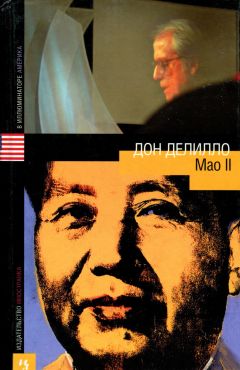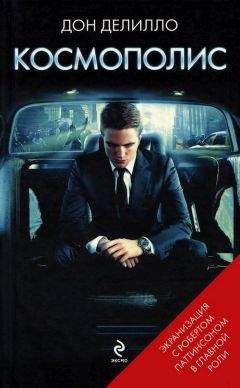— Откуда ты знаешь, что они его не убьют? В конце концов, именно этим они и занимаются.
— Очевидно, мы договоримся. Договор необходим. Если они вообще заинтересованы в том, чтобы фильм сняли, думаю, они согласятся на это условие. Они поймут, что иначе я ничего снять не смогу. Кто бы они ни были, они не совсем темные. Мне даже хочется сказать, что они разумны. Я чувствую этих людей. Я провел с Брейдмасом достаточно времени и кое-что про них понял. И я убежден, что они захотят это сделать. Жизнь, которую они ведут, их поступки — все это так похоже на отснятый материал, так естественно для фильма, что я уверен: стоит мне разок с ними поговорить, и они поймут, что эта идея могла бы прийти в голову им самим — идея, завязанная на языках, глубинной логике, нестандартных формах, нестандартном угле зрения. Кино — это больше чем вид искусства двадцатого века. Это часть сознания двадцатого века. Это мир, увиденный изнутри. Мы подошли к повороту в истории кино. Если вещь можно использовать в фильме, значит, фильм уже скрывается в самой вещи. Двадцатый век существует как фильм. Он целиком отснят на пленку. Невольно задаешься вопросом, если ли в нас что-нибудь важнее того, что мы постоянно фигурируем в фильме, постоянно смотрим на самих себя? Весь мир копируется на пленке, непрерывно. Спутники-шпионы, микроскопические сканеры, снимки эмбрионов, внутренних органов, секс, война, политические убийства — все. Я не могу поверить, что эти люди не увидят себя персонажами фильма. Причем мгновенно. Я хочу, чтобы часть фильма они сняли сами. Пора возвращаться к разделению обязанностей, к анонимному, коллективному творчеству. Хочу, чтобы они работали с камерой, появлялись перед камерой, помогали мне планировать съемки. Пусть почитают вслух алфавиты. Загадочные звуки. В общем, пусть делают все, что делают, говорят все, что говорят. Ты еще ничего подобного не видел, Джим. Они поснимают, я поснимаю. Может, я сам займусь фоном, ландшафтом. Мы все что-нибудь да сделаем. Меня привлекает эта идея, по крайней мере сейчас.
— Как ты это организуешь?
— Начало положено, — сказал он. — Один есть.
Я не уверен, что сразу понял бы, о чем он говорит, если бы не его вид — мрачная решимость, удовлетворение, которого он не мог скрыть. Кто или что у тебя есть, спросил бы я.
Он вывел меня наружу, мы встали между двумя рожковыми деревьями и посмотрели через долину на поселок, где я только что бродил. Он стоял на волнистом склоне лунного колера, поросшем призрачными деревьями, среди кривых уступов, которые казались гигантской лестницей, ведущей на холм, плодом поэтического воображения. Вокруг башен была разлита дымка. Отсюда, с нашего пункта наблюдения, поселок выглядел нереальным, он точно парил в воздухе. В нем было что-то от средневековой легенды — я не уловил этого там, в царстве кактусов и грязи, тоже по-своему таинственном, но не имеющем ничего общего с фольклором и эпическими поэмами.
— Четыре дня назад. Я нашел его в одной из башенок. Он спал в сыром подвале, от него воняло козами. Андал. Он знает мои фильмы.
Было зябко, и мы вернулись внутрь.
— Он был с ними на острове. Он все еще с ними, но теперь ситуация изменилась. Им пришлось уйти из этого поселка, они разбрелись по окрестностям, но Мани не покинули. Их пятеро. Андал любит поговорить, но я ему не мешаю. Я здесь не для того, чтобы с ними спорить.
— Почему они оставили поселок?
— Его будут восстанавливать. Все перестроят. Вот-вот приедут рабочие. Хотят сделать из башенок что-то вроде коттеджей для туристов.
— Житейская проза, — сказал я. — Где он сейчас?
— На мессинском берегу есть пещеры. Одни очень известные, обширные. Другие — просто дыры в скале. Я подбрасываю его до дороги, которая ведет к пещерам. Не знаю, куда он потом уходит. Последние три дня все было одинаково. Я приезжаю в условленное место. Через какое-то время появляется он. Они обсуждают мое предложение. Он пытается организовать встречу.
— Ты спрашивал у него, в чем их принцип? Почему они устраивают слежку. Как решают, на кого и когда напасть.
— Насчет этого он молчит, — сказал Фрэнк.
Поскольку одна часть восточного побережья вообще лишена дорог, нам пришлось пересечь полуостров дважды, чтобы добраться до Гитиона — портового городка на крутом слоистом берегу, обрывающемся прямо в море. Закат. Мы нашли Дел Ниринг в кафе у самой воды — она писала открытку кошке.
— Если вы спросите человека, сколько у него детей, он гордо ответит: двое. Потом вы обнаружите, что есть еще дочь, которую он не счел нужным добавить. Ценность имеют только сыновья. Вот вам Мани.
— Интересно, увижу ли я когда-нибудь свою квартиру, — сказала Дел. — Все пытаюсь вспомнить, как она выглядит. Есть большие пробелы. Точно целые куски жизни исчезли без следа.
— Смерть и отмщение, — сказал Фрэнк. — Вокруг каждой семьи творилось множество кровавых дел. Дом был также и крепостью. Потому они и строили башни. Бесконечные вендетты. Семья — хранительница мести. Эту идею лелеяли. Ее берегли, заботились об условиях. Это похоже на кровавые семейные саги в кино. Саги об итальянских гангстерах нравятся людям не только из-за преступлений и насилия, но и благодаря тому, что они пропагандируют культ семьи. Итальянцы превратили семью в экстремистскую группировку. Семья стала орудием мести. Месть это стремление, которое почти никогда не воплощается в действие. Большинство из нас способны наслаждаться ее плодами только в воображении. Смотреть на эти семьи, на преступные кланы, где многие связаны кровным родством, и видеть, как они мстят своим врагам, — воодушевляющее зрелище, оно сродни религиозному опыту. Семья Мэнсона в Америке — патология, возникшая благодаря той же безотчетной тяге к созданию сильной группы, которая держалась бы на кровной, в буквальном смысле, связи между ее членами. Но там кое-чего не хватало. Мотива мести. Им не за что было мстить. Кровь должна быть расплатой за чье-то оскорбление, чью-то смерть. Иначе акт насилия выглядит жутким и болезненным, и именно так мы воспринимаем мэнсоновские убийства.
— Фрэнк, между прочим, из тосканского рода. Я его спрашиваю, почему ты говоришь как сицилиец.
— Посмотри на нее. Обожаю ее лицо. Пустое, совершенное, ничего не выражающее. Как раз то, что надо в современном мире.
— Отвали.
— Это ее свойство, — сказал он. — Равнодушие исходит из самых глубин ее существа. Индифферентность. Подходящее слово? Может быть, индифферентность — это чересчур красноречиво.
— Если Мэнсон — жутко и болезненно, — сказал я, — тогда как насчет нашей секты?
— Абсолютно другое. Во всех отношениях. Эти люди — монахи, разве что вне церкви. Они хотят оседлать вечность.
— То же, но другое.
— Фильм не является частью реального мира. Вот почему люди в фильмах занимаются сексом, накладывают на себя руки, умирают от изнурительных болезней, совершают убийства. Так они вносят свой вклад в коллективную грезу. В каком-то смысле фильм независим от своего создателя, от людей, которые в нем снимаются. Существует четкая обособленность. Ее-то я и хочу исследовать.
Зал был длинный и темный. Мальчик приносил чай, узо для Фрэнка. Дел смотрела на старика, который сидел в углу со свисающей изо рта сигаретой.
— Фильм, — рассеянно сказала она. — Фильм, фильм. Точно насекомые шуршат. Фильм-фильм-фильм. Снова и снова. Потирают крылышками. Фильм-фильм. Солнечный летний день, жаркое марево над поляной. Фильм-фильм-фильм-фильм.
Только закончив говорить, она переключила свое внимание на Фрэнка, сгребла в горсть волосы у него на затылке и повернула его голову так, чтобы он смотрел прямо в ее серые глаза. Прилюдные проявления нежности приберегались ими для случаев, когда они подшучивали друг над другом. Это была автоматическая компенсация — глаза и руки как правдивые выразители любви, искупающие то, что говорится нами.
Мы перешли в ресторан по соседству. В корзинке перед входом лежало несколько краснобородок. Мы взялись за еду, и тут приковылял уже знакомый нам старик. Он был такой дряхлый, что бормотал себе под нос, и сигарета по-прежнему свисала у него изо рта. Увидев его, Дел воспряла духом. Она решила, что не хочет больше разговаривать с нами. Теперь она хотела разговаривать с ним.
Мы смотрели, как она говорит за его столиком, сопровождая свою речь сложной жестикуляцией, тщательно произнося слова английские с небольшой примесью итальянских и испанских. Похоже было, что Фрэнк глядит прямо сквозь нее, точно его внимание приковал какой-то любопытный предмет на стене.
— Она пока еще сама по себе, — сказал он. — Не знает, хочет ли вырасти и отвечать за что-то в этом мире. Ей редко везло в жизни. У нее есть манера пасовать перед судьбой и людьми. Но мы ничего не скрываем друг от друга. Нам легко вместе. Я никогда не был знаком с женщиной, которой можно было бы так все выкладывать. Вот что главное в нашей связке. Откровенность. Мне иногда кажется, что мы познакомились три жизни назад. Я говорю ей все.