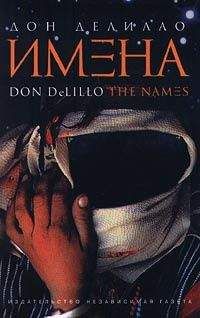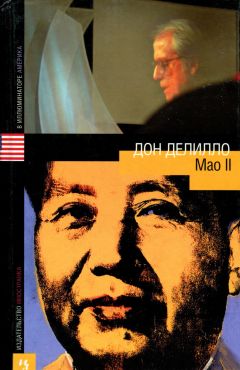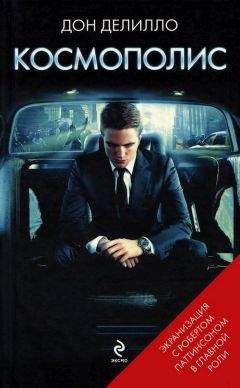— Она пока еще сама по себе, — сказал он. — Не знает, хочет ли вырасти и отвечать за что-то в этом мире. Ей редко везло в жизни. У нее есть манера пасовать перед судьбой и людьми. Но мы ничего не скрываем друг от друга. Нам легко вместе. Я никогда не был знаком с женщиной, которой можно было бы так все выкладывать. Вот что главное в нашей связке. Откровенность. Мне иногда кажется, что мы познакомились три жизни назад. Я говорю ей все.
— Кэтрин ты тоже говорил все.
— Она никогда не отвечала мне тем же.
— Ты говорил Кэтрин больше, чем я. Это было своего рода вызовом, нет? Так у вас с ней повелось. Ты как бы предлагал ей пойти на риск и включиться во что-то совершенно неведомое. Ты хотел шокировать ее, заинтриговать ее. По-моему, это казалось ей занятным. В ее жизненном багаже не было ничего подобного.
— Кэтрин мне не удалось бы сбить с толку никаким вызовом. Если я вообще понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь о вызовах и рисках.
— Помнишь ту рубашку? Она до сих пор у нее. Твоя карабинерская рубашка.
— Она ей шла.
— И сейчас идет. Я до сих пор не могу успокоиться, так она ей идет.
— Допивай вино. За последние десять лет я не вел более идиотского разговора.
Дел беседовала со стариком и официантом. Официант держал по пепельнице на тыльной стороне каждой руки.
— Она прекрасна. Дел, то есть.
— Да, у нее поразительное лицо. Я его обожаю — неважно, что я там болтал. Оно никогда не меняется. Даже жуть берет — оно всегда одинаковое, как бы она ни устала, как бы плохо ей ни было.
Мы посидели и поговорили в вестибюле гостиницы, практически в темноте. Когда Фрэнк с Дел поднялись наверх, я прогулялся по улочкам над морем. Задул сильный ветер, не такой, как на открытом пространстве. Он носился по городу, хлопая ставнями, меняя внешний облик предметов, будоража все кругом, увлекая вещи с собой, обнажая их временность, их беззащитность перед внезапным натиском безрассудства. Я видел деревянные балконы, курятники. Стены местами осыпались, все заросло кактусами. Человеческие силуэты на свету, в маленьких комнатках, тени на стене, лица.
Они хотят оседлать вечность.
Я мог бы спрятаться за одержимостью Вольтерры так же, как прятался за неприкрытым страданием Оуэна, за его песнью беспомощности.
Я пробирался по грязным улицам с тем же сложным чувством, что и в первый раз. Я словно видел себя со стороны — одинокий силуэт в жидком рассветном тумане. Голос, похожий на мой собственный, но доносящийся извне, комментировал ситуацию без помощи слов.
Я состоял из джинсовки и овчины. На мне были непромокаемые ботинки и перчатки с мехом внутри.
Вот как бывает в жизни. Я приезжаю в поселок, по которому гуляет ветер, захожу в кафе и натыкаюсь прямо на них, хотя тогда еще не знаю об этом. А теперь ныряю под каменную притолоку в деревушке, где никто (или почти никто) не живет, и он сидит там на синей коробке из-под бутылок с содовой, а рядом, перевернутая вверх дном, стоит вторая, для меня. Горит костер из хвороста, и он отрывает подошвы от грязного пола, подставляя их огню, и больше ничего — просто разговор в подвале с невысоким простуженным человеком. А как еще это могло быть? Чего я ждал? Единственный повод для удивления — это мое присутствие здесь. На моем месте должен был оказаться кто-то другой, тот, кто ясно видит себя самого.
— Что мы имеем? — спросил он. — Сначала мы имеем режиссера, теперь писателя. В общем, не так уж и странно.
— Фрэнк думает, что я хочу написать о нем.
— О нем или о нас?
— Я друг Оуэна Брейдмаса. Вот и все. Я знаю Оуэна. Мы разговаривали много раз.
— Это тот специалист по языкам. Спокойный и очень добрый, по-моему. Терпимый, восприимчивый, способный широко и культурно мыслить. Он не спешит, не гонится за удовлетворением. Вот что такое знать языки.
У него было длинное лицо и высокий лоб с залысинами, усеянный бледными веснушками. Руки маленькие. Это меня каким-то таинственным образом успокоило. Вид у него был бесстрастный. Его черная гимнастерка расползлась на правом плече. Я изучал его, делал мысленные заметки.
— Я думал, вы захотите говорить по-гречески, — сказал я. — Или на языке какого-то конкретного места.
— Мы больше не находимся в одном месте. Организация немного расстроилась. Скоро все снова будет в порядке. Да и эта затея с Фрэнком Вольтеррой сама по себе уникальна. Что мы имеем? Совершенно непривычную ситуацию. И мы пробуем к ней приспособиться.
— Остальные тоже заинтересованы в этом? Они согласны сниматься в фильме?
— Тут есть свои трудности. Это зависит от нашей главной цели. Мы должны учесть многое. В частности, представляем ли мы собой тот материал для фильма, какой видит в нас Фрэнк Вольтерра. Возможно, нет. У него нет полного понимания.
— У Оуэна Брейдмаса было такое понимание.
— А у вас? — спросил он.
— Если мы говорим о том, что поддается разгадке, о ребусе, тогда ответ утвердительный, я его разгадал.
— И каково же решение?
— Буквы совпадают, — сказал я. — Имя, название места.
Он отклонился назад, обхватив руками колени, балансируя так, чтобы держать ноги поближе к огню. Я подался вперед, чтобы ощутить тепло от костра на своем лице. Выражение его лица не изменилось, хотя, пожалуй, можно сказать, что мой ответ заставил Андала обновить его стоическую маску, прочнее утвердиться в своей невозмутимости. Я вынудил его включить сознательный контроль над собой.
— Мы кажемся вам непостижимыми?
— Нет, — сказал я.
— Почему же?
— Не знаю.
— Мы должны казаться непостижимыми. Как по-вашему?
— Не уверен. Не знаю.
— Видимо, наш метод находит какой-то отклик в глубине вашей души. Узнавание. Это смутное узнавание не поддается разумной формулировке. Вы улавливаете в нашем поведении нечто, кажущееся вам знакомым и понятным, но не можете это проанализировать. Мы действуем на доречевом уровне, хотя словами, конечно, пользуемся, мы пользуемся ими все время. В этом есть тайна.
Его глаза в крапинках лопнувших сосудов смотрели тускло. Двухдневная щетина, белесая с рыжиной, была темнее волос на голове. Ногти на руках были желтые и толстые.
— В каком-то смысле нас почти не существует, — сказал он. — Наша жизнь тяжела. Нас преследуют неприятности. Рвется связь между отдельными группами. Возникают расхождения в теории и на практике. Целыми месяцами ничего не случается. Мы отвлекаемся от цели, болеем. Кто-то умирает, кто-то уходит. Кто мы, что мы здесь делаем? Нам не грозит даже преследование со стороны полиции. Никто не знает, что мы существуем. Никто нас не ищет.
Он сделал короткий перерыв, чтобы откашляться.
— Но в другом смысле мы связаны накрепко. Как же иначе? Кроме всего прочего, нас объединяет то первое переживание, тот миг узнавания, когда мы ощутили, что этот замысел вызывает какой-то отклик в нашей душе, и сразу же захотели стать его частью. Я сам впервые услышал об этом в Тебризе, восемь лет назад — тогда я еще не был членом. Люди в гостинице говорили о культовом убийстве неподалеку. Гораздо позже, не могу рассказать вам как, я понял общую схему. Меня сразу потрясло что-то в самой сути последнего акта. Я почувствовал, что это правильно. Крайность, безумие, называйте это любыми словами. Числам можно доверять, словам — нет. Я знал, что это правильно. Неизбежно, совершенно и правильно.
— Но почему?
— Совпадение букв.
— Но убивать?
— Все остальное не годится, — сказал он. — Только так. Я сразу понял, что это правильно. Не могу описать, как глубоко и сильно я это почувствовал. Дело не в вопросах и ответах. Тут что-то совсем другое. Что-то ужасное и бесповоротное. Я знал — это правильно. Так должно быть. Убить его, раскроить череп, чтобы разлетелись мозги.
— Из-за букв.
— Я уверен, вы сами понимаете, что меньшего здесь не хватило бы. Абсолютно необходимо совершить именно это, причем своими руками, прямо и непосредственно. Все остальное слабо. Вы же понимаете, что это так. Вы знаете, насколько это правильно. По крайней мере, чувствуете. Все предыдущее ведет к этому. Только смерть.
Он поставил ноги на землю, чтобы откашляться, опустил голову, закрыл руками лицо. Перевел дух и снова откинулся назад, ловя равновесие, приблизив подошвы к пламени. Я потянулся в сторону за хворостом, подбросил его в костер. Так мы сидели некоторое время в молчании. Андал — откинувшись далеко назад, подняв ноги. Акстон — наклонясь вперед, глядя в огонь.
— Мы прошли эти горы с севера на юг. Когда добрались до Мани, поняли — здесь мы останемся. Сейчас у нас трудности, но скоро все образуется. Важно одно. В чем сила Мани? Он ничего тебе не навязывает. Ни богов, ни истории. Весь остальной Пелопоннес насыщен ассоциациями. Юг Мани — нет. Здесь только то, что есть. Скалы, башни. Мертвая тишина. Это место, где люди могут перестать делать историю. Мы ищем выход.