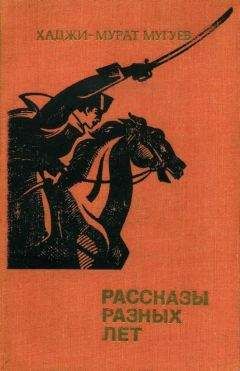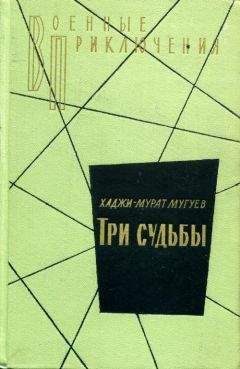Один из возчиков махнул рукой и поглядел по сторонам.
— Ломик бы… Сейчас пойду пошукаю.
Он огляделся и направился в сторону их дома.
Колька увидел, отпрянул, но не успел спрятаться под матрацем. Так и остался сидеть на полу. Как глупыш-птенец, выпавший из гнезда.
Солдат не сразу заметил Кольку. Сделал несколько шагов, осматривая помещение, и вдруг наткнулся взглядом на Кольку. Даже вздрогнул от неожиданности.
— Эге! А ты чего тут делаешь? — спросил удивленно. Солдат был белобрыс, веснушчат, голубоглаз. От неожиданности шмыгал носом.
— Живу, — отвечал Колька хрипло.
— Живешь? Где?
— Тут, в колонии…
Солдат огляделся и вдруг прояснел.
— Ты говоришь, колония? — он присел на корточки, чтобы лучше видеть пацана. И опять шмыгнул носом. — Где же тогда остальные?
— Уехали, — сказал Колька.
— А ты чего же не уехал? Ты один? Или не один?
Колька не ответил.
Солдат-то был востроглазым. Он давно заметил, как подергивается матрац на Алхузуре. И пока беседовал, несколько раз покосился в его сторону.
— А там кто прячется?
— Где? — спросил Колька.
— Да под матрацем.
— Под матрацем?
Он тянул время, чтобы получше соврать. Сашка бы сразу сообразил, а Колька после болезни совсем отупел, голова не варила.
Выпалил первое, что пришло на ум.
— А-а, под матрацем… Так это Сашка лежит! Брат мой… Его Сашкой зовут. Он болеет. — И добавил для верности. — Мы оба, значит, болеем.
— Так вас больных оставили! — воскликнул солдат и поднялся. — А я-то слышу, вчерась, будто разговаривают… Я на часах стоял… А ведь знаю, что кругом никого… Как же это вас одних бросили?
Он подошел к Алхузуру и заглянул под матрац.
— Конечно! У него же температура! А может, малярия! Вон как трясет!
Помедлил, рассматривая Алхузура, и накрыл матрацем.
Солдат направился к выходу, но обернулся, крикнул Кольке:
— Сейчас приду.
Колька насторожился. Зачем придет-то? Или засек, что Алхузур не брат? Но солдат вернулся с железной, знакомой Кольке мисочкой из-под консервов, принес пшенную кашу и кусок хлеба. Поставил на пол перед Колькой.
— Вот, значит… Тебе. И ему дай. И вот еще лекарства…
— Он положил рядом с миской шесть желтых таблеток.
— Это хинин, понял? У нас многие малярией мучаются, так хинин спасает… Тебя как зовут?
— Колька, — сказал Колька. Менять свое имя сейчас не имело смысла. Да и кем теперь назовешься? Алхузуром?
— А я боец Чернов… Василий Чернов. Из Тамбова.
Солдат постоял над Колькой, все медлил уходить. Шмыгал носом и с жалостью смотрел на больного. Уходя, произнес:
— Так ты, Колька, не все сам ешь… Ты брату оставь… А я, значит, санитаров пришлю… Завтра. Ну, бывай!
Лишь когда стемнело, Алхузур выглянул в дырку из-под матраца. Он хотел убедиться, что солдата уже нет.
Колька крикнул ему:
— Вылезай… Нечего бояться-то! Вон, боец Чернов сколько принес! Тебе принес и мне…
Алхузур смотрел в дырку и молчал. Матрац на нем шевельнулся.
— Будешь есть? — спросил Колька. — Кашу?
Алхузур высунулся чуть-чуть и покрутил головой.
— Пшенка! — добавил аппетитно Колька. — С хлебом! Ты пшенку-то когда-нибудь ел?
Алхузур приоткрылся, посмотрел на миску и вздохнул.
— Давай… Давай… — приказным тоном солдата Чернова произнес Колька. — Он велел поесть.
Алхузур поворочался, повздыхал. Но выползать из-под матраца не решался. Так и полз к Кольке со своим матрацем, который тянул за собой. В случае опасности можно укрыться. Ему, наверное, казалось, что так он защищен лучше.
Колька разломил хлеб пополам и таблетки разделил. Вышло по три штуки.
Указывая на хлеб, спросил:
— Это как по-вашему?
— Бепиг…
Алхузур с жадностью набросился на хлеб.
— Ты не торопись, ты с кашей давай, — посоветовал Колька. — С кашей-то всегда сытней! А воды мы потом из Сунжи принесем..
— Солжа… — поправил его Алхузур. — Дыва река, таэк зови…
— Разве их две? — удивился Колька, пробуя кашу.
— Одын, но как дыва.
— Два русла, что ли? — удивился Колька. — Прям как мы с Сашкой… Были… Мы тоже двое, как один… Солжа, словом!
Кашу брали руками, съели все и мисочку пальцами вычистили. Корочкой бы, но корочку сжевали раньше. Довольные, посмотрели друг на друга.
— Теперь ты мой брат, — сказал, подумав, Колька. — Мы с тобой Солжа… Они завтра придут за нами, фамилию спросят, а ты скажи, что ты Кузьмин… Запомнишь? По-нормальному, так Кузьменыш… А хлеб, это для нас с тобой бепиг, а для них хлеб это хлеб… Не проговорись, смотри… Сашка Кузьмин, вот кто ты теперь!
— Я Саск, — подтвердил Алхузур. — Я брат Саск… — Он спросил, вздохнув: — А дыругой брат Саск гыде?
— Уехал, — ответил Колька. — Он на поезде в горы уехал.
— Я тоже хадыт буду, — заявил Алхузур. — Я бегат буду… Ат баэц…
— Зачем? — не понял Колька. — Бойцы хорошие… Боец Чернов нам каши дал.
Алхузур закрыл глаза.
— Баэц чурт ломат…
— Могилы, что ли? Ну и пускай ломают, нам-то что!
Но Алхузур твердил свое:
— Плох, кохда ламат чурт… плох…
Он закатил глаза, изображая всем своим видом, насколько это плохо.
— Ну, чего ты разнылся-то! — крикнул Колька. — Плох да плох. Могиле не может быть плохо! Она мертвая!
Алхузур вытянул трубочкой губы и произнес, будто запел, вид у него при этом был ужасно дурашливый.
— Камен нэт, мохил-чур-нэт… Нэт и чечен… Нэт и Алхузур… Зачем, зачем я?
— А я тебе твердю, — сказал, разозлившись, Колька. — Если я есть, значит, и ты есть. Оба мы есть. Разбираешь? Как Солжа твоя.
Алхузур посмотрел на небо, зачернившее окно, ткнул туда пальцем, потом указал на себя:
— Алхузур у чечен — пытьща, так зави. Он лытат будыт… Хоры. Дада-бум! Нана-бум! Алхузур не лытат в хоры и ему… бум…
Он выразительно показал пальцем, изобразив пистолет.
В Москве, в Лефортове, за спиной студенческих общежитий МЭИ, стоит четырехэтажное кирпичное здание бани. По средам там собирается команда любителей помыться и попариться. Студенты, пенсионеры, военные.
Однажды мой приятель, полковник, привел меня сюда. Было это в начале марта. Представил человеку пенсионного возраста, крепкому, но с животиком, произнеся:
— Вот, Виктор Иваныч… Надо показать ему (то есть мне) нашу баньку по всем, как говорят, правилам!
Виктор Иванович был в вязаной шапочке, в босоножках.
Он подал мне два дубовых веника — сам делал! — и повел в парную, по пути наказав окунуть их в холодный бассейник, а потом хорошенько стряхнуть, чтобы влаги не осталось. В эти веники, уткнувшись лицом, можно было дышать в парной, когда нас облепил, окутал сильный жар. И тут, на полках, все друг друга окликали, все знали. Кому-то кричали: «Коля, давай еще! Хорошо бы мяты! Эвкалипта! Витя! Эвкалипта у тебя нет?» А потом разложили меня на каменном полке, это уже не в парной, и Виктор Иванович с моим приятелем кудесили надо мной, особенно старался Виктор Иванович. Он поставил две шайки: одну в другой, с кипятком, а сверху третью — с мыльной пеной. Он окунал два веника в кипяток и быстро переносил их на мое тело. Прижимая к бокам, к спине, к позвоночнику, раскаляя до боли кожу, он шептал: «Терпи… Терпи…» И все разогревал меня, да так, что еще немного, и я бы не выдержал, но, видно, в том и было искусство, что он знал меру, эту границу-то!
А потом они терли, мылили, ласкали пальцами каждую во мне мышцу, каждую жилочку, подолгу растирали руки от кисти к плечу и ноги от пальцев вверх к коленям, а потом и брови, и щеки, нежненько, от носа к вискам, и все это потом ополаскивали водой, то горячей, на пределе (но ни разу того предела не перешли!), а то холодной, и тоже на пределе терпения.
Опять пошли горячие венички к моему радикулитному поясу, это уж специально, я потому и пошел в баню, что приболел; замучил меня радикулит…
О радикулите надо отдельно сказать, он у меня такой давний, застарелый… С тех пор, как я однажды в детстве в поле среди сухой кукурузы в ямке полежал… Всадники гнались за нами. Одна лошадь прошла надо мной в сантиметре. Я слышал затылком, как она переставляла копыта и шумно дышала, шевеля на моем затылке волосы… Но были сумерки, и всадник не успел понять, отчего его конь затоптался на одном месте. Издали протяжно, на чужом гортанном языке его кликнули на помощь — кого-то поймали! И он ускакал, стегнув нерасторопную конягу.
С тех самых пор мучит, мучит эта неумолимая боль в спине… Спасибо бане, спасибо Виктору Ивановичу, спасителю моему.
А в перерывчик блаженно усталые мои новые друзья извлекли водочку, у банщика подкупили пивца: по рублю за бутылку, а Виктор Иванович достал кореечку, лучку зеленого и банку с огурцами… И тихо-мирно, завернувшись в простыни, приняли из стаканчика, видать, тоже ритуального.