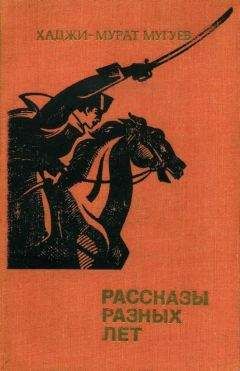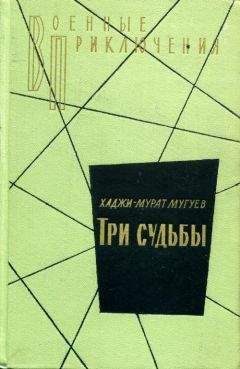Виктор Иванович стал рассказывать про дубовые венички, которые он ломает, потом под гнет кладет, потом вялит на балконе и хранит в полиэтиленовом мешке… До следующего сезона как раз хватает!
— До лета, что ли? — спросил мой приятель, полковник-танкист.
— Эх, молодежь! — сказал Виктор Иванович, покачав головой. — Все-то вас учи да учи, ничего не знаете! До Троицы! Слыхивали про такую?
Последний раз они зашли в парную — лакировочка! А потом допили, оделись и вышли наружу. Но это был еще неполный ритуал, так я понял. Они свернули в ту же баню, с обратной ее стороны. Виктор Иванович скрылся за грязной дверью, но вскоре появился и поманил нас за собой: «Сюда! Сюда давайте!» В замусоренной полуподвальной комнатке стоял фанерный щиток, а за ним сидели два человека, выпивали: мы их видели в той же бане… А около них стоял небольшого росточка в зимней ушанке, в ватнике мужичок.
— Как, Николай Петрович, будет? — спросили его.
— Будет, будет, — отвечал он озабоченно. — Вот, хотите тут, а хотите в другой отсек…
— Нам бы в другой отсек… Если можно, — сказал Виктор Иванович. Повелительно так сказал.
Нас повели через заваленный столярной рухлядью коридор и привели в другой чулан, побольше первого. И тут была фанерка, и ящики вместо табуреток. Николай Петрович скрылся, принес бутылку и стаканы.
Разливая, Виктор Иванович кивнул в сторону коридора и сказал:
— А эти… наши! Один подполковник, а другой не помню… Из интендантов, кажись…
— А вы из каких? — спросил почему-то я.
Он, не отвечая, достал книжку участника войны.
— Вот, — сказал. — Я всю войну от корки до корки.
Выпили. Он глотнул из банки рассольчик и, заедая корочкой, добавил:
— Начиная от парада в сорок первом… А потом везде… Я автоматчиком был… Вот на Кавказе… Мы там этих, черных, вывозили. Они Гитлеру продались! Их республиканский прокурор был назначен генералом против нас…
Он опять налил. И мы выпили.
— В феврале, в двадцатых числах, помню, привезли нас под праздник в селение, вроде как на отдых. А председателю сельсовета сказали: мол, в шесть утра митинг, чтобы все мужчины около твово сельсовета собрались. Скажем и отпустим. Ну, собрались они на площади, а мы уже с темноты вокруг оцепили и сразу, не дав опомниться, в машины да под конвой! И по домам тогда уж… Десять минут на сборы, и в погрузку! За три часа всю операцию провели. Ну, а те, что сбежали… Ох, и лютовали они… Мы их по горам стреляли… Ну, и они, конечно…
Появился Николай Петрович, посмотрел на пустую бутылку, сказал:
— Закрываю, пора!
Встали, Виктор Иванович выходил первым и продолжал рассказывать:
— Помню, по Аргуни шли… Речка такая… На ишачках, значит, одиннадцать ишачков, я второй… Он как полоснет с горки из пулемета! Двое упали, а мы, остальные, отползли за выступ! Настроили миномет, и по той горке, где он засел, как дали… Горку ту срезали, ни пулеметчика, ни пулемета! Клочка одежды не нашли. У нас ведь как положено: голову тащишь в штаб, а там кто-нибудь из ихних опознает и вычеркнет из списков: Ахмет или еще кто… Ну, там до весны орден дали, а потом татар из Крыма переселял… Больше на тот свет… Калмыков, литовцев… Тоже злодеи-фашисты, сволочи такие…
И вдруг я услыхал что-то уже знакомое, слышанное давным-давно. Наверное, там же, на Кавказе.
— Всех, всех их надо к стенке! Не добили мы их тогда, вот теперь хлебаем.
Тут завернули мы в стекляшку, она как бы тоже не случайно встала на нашем пути. Расположенная рядом с церковью, так и зовется стекляшка: у Петра и Павла, ее в Москве знают. Разменяли рубль на мокрую мелочь, сполоснули кружки, из автоматов нацедили пива и за грязным столом стали пить, закусывая солеными баранками.
Толпился кругом народ, люди здоровались, перекликались. И тут, как в бане, все знали и приветствовали друг друга.
К Виктору Ивановичу притянулись двое, сморщенные, в длиннополых старого покроя пальто из черного драпа. Мне их представили как «наших ребят», завсегдатаев.
— Вот они повоевали… — хвалил их Виктор Иванович. — Мы в одних войсках были, хоть и не встречались… Да тут наших много!
Он повел рукой, и я невольно оглянулся. И правда, не считая студентов, которых нетрудно было выделить по возрасту и одежде, другие все или почти все были как бы вровень с нашим Виктором Ивановичем… Не такие моложавые, но уж точно, спокойные, благостные, что ли. И хоть без погон, но чувствовалась в них старая выучка… Школа. Какая школа!
Виктор Иванович кричал своим дружкам, похрустывая солененькой бараночкой, крошки от нее летели на пол:
— Я этих гадов как сейчас помню… У меня грамота лично от товарища Сталина! Да!
Его мирные улыбчивые дружки кивали и протягивали с мутным питием кружки, соединив их в едином толчке.
А ведь, не скрою, приходила, не могла не прийти такая мысль, что живы, где-то существуют все те люди, которые от Его имени волю его творили.
Живы, но как живы?
Не мучают ли их кошмары, не приходят ли в полночь тени убиенных, чтобы о себе напомнить?
Нет, не приходят.
Поиграв с внучатами, они собираются, узнавая друг друга по незримым, но им очевидным приметам. Печать, наложенная их профессией, видать, устойчива.
И, сплачиваясь, в банях ли, в пивных ли, они соединяют с глухим звоном немытые кружки и пьют за свое здоровье и свое будущее.
Они верят, что не все у них позади…
На рассвете, лишь рассеялся густой туман, прикрывавший долину, и с поля потянуло ветерком и запахом горелой травы, мы вдвоем пробирались тихим двором, где рядом с желтым бугорком директорской могилы торчала повозка с камнями. Видать, ее вчера так и не смогли вытащить.
Мы скользнули в наш лаз и выбрались к кладбищу.
Впрочем, кладбища уже не было. Валялись тут и там побитые и выкорчеванные камни, готовые к отправке, да рыжела вывернутая земля.
Но когда мы полем направились к реке, мы снова наткнулись на могильные камни, положенные в ряд.
Это и была дорога, необычная дорога, проложенная почему-то не в станицу, а в сторону безлюдных гор.
Мой спутник на первом же камне будто запнулся. Постоял, глядя себе под ноги, потом наклонился, присел на корточки, на колени. Неловко выворачивая набок голову, что-то вслух прочел.
— Что? — спросил я нетерпеливо. — Что ты там читаешь?
Не отрываясь от своего странного занятия, он сказал:
— Тут лежат Зуйбер…
— Зуйбер? Кто это?
Он пожал плечами.
— Дада… Отэц…
И переполз к следующему камню…
— Тут лежат Умран…
— А это кто?
Как и в первый раз, он повторил, не глядя на меня:
— Дада… Отэц…
И далее, от камня к камню:
— Хасан… Дени… Тоита… Вахит… Рамзан… Социта… Ваха…
Я оглянулся кругом. Рассвело уже настолько, что нас было видно издалека. Надо было спешно и скрытно уходить.
Я поторопил своего спутника.
— Пойдем, пойдем… Пора!
Он не слышал меня.
Переползая от камня к камню, он прочитывал имена, словно повторял на память историю своего рода.
Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы дорога не уткнулась в высокий обрывистый берег реки… В пропасть. Наверное, дальше будет мост, его уже начинали строить.
Миновав опасный обрыв, мы спустились к реке, перешли по камням на другую сторону и стали удаляться в сторону гор.
Мой спутник все оглядывался, пытаясь запомнить это место.
Ни он, ни я, конечно, не могли тогда знать, что наступит, придет время — и дети, и внуки тех, чьи имена стояли на вечных камнях, вернутся во имя справедливости на свою землю.
Они найдут эту дорогу, и каждый из вернувшихся, придя сюда, возьмет камень своих предков, чтобы поставить его на свое место.
Они унесут ее всю, и дороги, ведущей в пропасть, не станет.
— Может, рвануть к станции? — спросил последний раз Колька. — На подсобном хозяйстве знаешь как здорово?! Будем чуреки печь… Дылду сварим… А?
Алхузур покачал головой и указал на горы.
— Тут стрылат, там не стрылат, — бормотал упрямо и смотрел себе под ноги.
— Ладно, — согласился Колька. — Раз брат, то вместе идти надо. Мы с братом порознь не ходили. Ты понял?
— Панымат, — кивал Алхузур. — Одын брат — дыва хлаз, а дыва брат — четыры хлаз!
— Во дает! — воскликнул Колька и тут же оглянулся, заткнул себе рот. Негромко продолжал: — Ты прям как Сашка… Он то же самое говорил!
— Я Саск… — подтвердил Алхузур. — Я будыт хырош Саск… А там… — Он указал на горы. — Я будыт хырош Алхузур… А хлеб будыт бепих, а кукуруза — качкаш… А вода будыт хи…
Колька нахмурился. В памяти, навечно врезанная, возникла рыжая теплушка на станции Кубань, из окошек зарешетчатых тянулись руки, губы, молящие глаза… И до сих пор бьющий по ушам крик: «Хи! Хи! Хи! Хи'» Так вот что они просили!
Ребята пробирались вдоль узких оврагов, переходящих в складки гор. Попалось огромное дерево грецкого ореха, и Алхузур ловко сшибал орехи палкой, а Колька собирал за пазуху. Потом они ели дикий сладкий шиповник, нашли несколько грибов, но те оказались горькими.