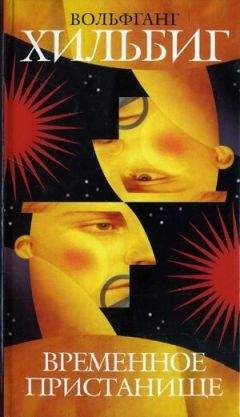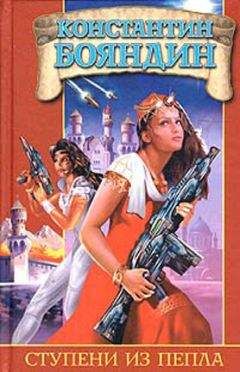Из-за того, что Ц. работал теперь на производстве, лес его юности отодвинулся вдаль; он отчаянно окружал себя вокабулярием этого леса, остались одни слова: деревья, листва, вода, облака, трава, трясина и осень. Доказательства того, что его истории имеют смысл, мало-помалу пропадали. Он писал все быстрее, но фигуры так никуда и не добирались: или сама история не допускала такой возможности, или ему приходилось прерваться. Дописывать историю завтра было вроде бы незачем.
А пока он писал, вокруг был завод со всеми его словарными значениями. Оцепеневшая действительность, громадой нависшая сверху, менялась: стало вдруг все равно, реальным или ирреальным представляется ему мир. Чудилось, будто он заперт в склепе под исполинской церковью, все отношения с которой порваны… из подполья, в котором он пребывал, человек сообщается уже не с администрацией, а только с Богом…
Или грезилось, будто он в корпусе старого парохода, в главной чакре гигантского накренившегося грузового судна, где обитают кроме него лишь чуткие крысы. Ему дана власть над сердцевиной этого парохода, от его бдительности зависит, сможет ли усталый, тоскующий по ремонту корабль следовать заданным курсом в отдаленную гавань. Но власть эта – не настоящая, вдоль борта мчались неукротимые океанские воды; он слышал из своей дрожащей каверны их гул и плеск.
А по утрам его настигал первый луч – Ц. узнавал его с детской благодарностью: через подвальный люк, прорубленный прямо под закоптелым, выжженным потолком, в кочегарку заглядывало солнце, наконец-то добравшееся сюда по мокрым булыжникам заводского двора; в мутном от пыли, затканном паутиной стеклянном прямоугольнике вспыхивал свет. Ночь кончалась; в туманном утреннем свете он плелся домой, чтобы проспать весь день, один из тех упорных весенних дней, что никак не желают теплеть. А осенью, когда стремительно холодало, по утрам бывало еще темно. Вечером он снова шел на работу, уже начиналась ночь, город казался пустынным, острый ночной ветер выдувал из мозга последнюю слабую паутину сна. Под ней обнажались первые глыбы фраз, оставалось только придать им форму. В запасе еще несколько часов, он садился за стол, удлиненный стол, пол под которым как будто слегка уходил из-под ног. Вероятно, сознательно он выбирал торец стола, откуда обозревалось все помещение, видны были и котлы, и входная дверь, и наконец начинал писать – длинный стол, покрытый клеенкой цвета морской волны с темным узором, суживался к концу. Поразительно, как легко оно шло… странно, столько бесконечных приготовлений требовалось для этого почти невесомого занятия. Проходило какое-то время, и настоящее как будто бы оттеснялось, он сидел, покачиваясь на стуле, обхватив ногами его ножки, словно в корпусе корабля на глубине впадины волны, уносимый быстрым течением, и организм моря глухо стучал под днищем.
Иногда он не помнил, что писал предыдущей ночью. За несколько первых часов на бумагу излился рассказ на десять с лишним страниц. Десять страниц старой школьной тетрадки в светло-серой обложке с пожелтевшим краем. Десять страниц он заполнил в один присест, в каком-то безудержном вдохновении, не дававшем перу отдохнуть. Тоненькая голубая разлиновка не соблюдалась, листы плотно, от края до края, покрывали торопливо бегущие волны буковок, все мельчавших, а под конец и вовсе едва читабельных.
Когда история завершилась, он сразу же – с паузой, необходимой на перелистывание страницы, – принялся записывать новый текст, до растопки котлов оставалось еще полчаса. Вторая история пришла ему в голову, когда он записывал первую… он торопливо писал, пока котлы не призвали к работе. Тогда, спрятав тетрадку в портфель из желтой кожи, он не мешкая стал выгребать шлак с колосниковой решетки. На старый тлеющий уголь загрузил свежий… Угля, угля, еще угля; он предавал огню скифские чащи своего детства. Очистил от золы поддувала, настроил клапаны на оптимальную скорость сгорания. Теперь – погасить кучи золы и шлака, выросшие перед котлами; водяная струя из шланга ударила в кучи, кочегарка вмиг наполнилась взметнувшимися, как от взрыва, облаками пара, фонтанами еще раскаленной золы; он втыкал металлический наконечник в смесь шлака и золы, куча вскипала и, клубясь, брызжа грязью и искрами, поглощала воду, пока наконец не гасла. Выключить воду, погрузить дымящуюся материю в железную бочку, краном вывезти все из котельной; за ночь он вывозил от шести до восьми переполненных бочек. Убрать рабочее место, вымести остатки золы и шлака, ополоснуть водяной струей из шланга бетонный пол и фасады котлов, обдать клеенку, оконце, кафель, раковину на задней стене. Потом подняться наверх и самому встать под душ.
Когда он вернулся, под потолком висела молочная гряда облаков, сквозь нее пробивался нереальный свет висячих ламп. С черных абажуров стекали водяные нити, повсюду капал и струился конденсат, в лужах перед котлами отражался жар топок, искры шипели в воде, красные и белые сполохи рассыпали в подвале свой странный огонь. Пожар в огневых каналах превратился в рев, равномерный, как рев локомотива или судового двигателя; сверху, из темных покамест цехов, доносились гулкие хлесткие удары пробивающегося по трубопроводу пара. Влажный гнетущий, почти субтропический зной воцарился в котельной, пахло прогретым на солнце мхом. Все новые и новые клубы пара возникали под потолком и оседали влагой; едва ревущий дымоход обернулся тишиной, как отовсюду послышалось бормотание и журчание воды… Тропический лес! – подумал он. В темных углах, где-то за котлами, проснулись и завели свой механический стрекот зимовавшие тут сверчки. Он снова уселся за стол, вынул из желтого портфеля тетрадь и начал писать…
В конце апреля 1986 года он впервые поехал в Вену, его пригласили на чтения, он с радостью ждал поездки. Ему казалось, он любит Вену, город литературы… но боялся, что повторится разочарование, которое он за несколько месяцев до того пережил в Париже. И страдал, что придется снова уехать из Нюрнберга: из Папуа – Новой Гвинеи вернулся Герхард. Ц. теперь снова жил в Ханау, где основным его занятием стало пьянство. Он сказал Гедде, что воспользуется временем в Ханау для писания, но она понимала, что он не пишет. Он не звонил неделями, отговариваясь тем, что боится услышать в трубке голос Герхарда, она не раз спрашивала, не хочет ли он переехать в Нюрнберг; он все не мог решиться, медлил с ответом. Когда он находился в Ханау, его подлинная сущность была скрыта от Гедды…
Большинство книг из раздела Холокост amp; Гулаг, купленные уже в Ханау, валялись по всей квартире. На полу, на креслах, на отвратительно буром, просиженном до черных засаленных пятен диванчике. Между книг на расстоянии вытянутой руки повсюду стояли бутылки, в основном початые; водочные, винные, пивные, они насыщали жилище стойким алкогольным чадом, от которого, казалось, тускнел свет и с утра тянуло на рвоту. Посреди большой комнаты, среди батарей бутылок и книжных завалов, лежал матрас, который он вынул из невыносимой кровати, и груда колючих пледов и одеял, в неразберихе которых он засыпал… когда придется, – как правило, когда алкоголь свалит с ног. По пробуждении его иногда рвало прямо' с матраса… достаточно было свесить гудящую голову, и из глотки вытекал неусвоенный алкоголь, вонючий, цвета черной крови, вперемешку с ошметками хлеба и неразжеванными кружочками соленого огурца… отдышавшись, он брал какую-нибудь книгу, сгребал ею излившуюся из утробы адскую бурду в пластмассовый пакет; книга из секции Холокост amp; Гулаг отправлялась туда же; обычно он в тот же день покупал книгу заново.
Вторую категорию книг, густо усеявших пол, среди которых он жил подобно рептилии, составляла литература, посвященная всевозможным формам психотерапии и психоанализа (тут он поддался влиянию западной моды); и эти книги тоже его осуждали… он взялся за них (наверное, сдуру) после того, как впал в глубокий кризис, начитавшись о преступлениях диктатур двадцатого века. Психологическая литература ему не помогала. Он лишь находил в ней собственные мучения да утверждался в подозрении, что лишь благодаря весьма шатким обстоятельствам не стал орудием названных диктатур. Только его жалкое отношение к жизни, как к черновому наброску, и не дало ему ухватиться за нижнюю перекладину лестницы, ведущей к преступлениям…
Эти книги скрупулезно выявляли его тип, после чтения он чувствовал себя так, словно над ним тяготеет проклятие… он редко прочитывал книгу от корки до корки, однако с мазохистской точностью инстинктивно открывал именно те главы, где все кишмя кишело примерами, отрицавшими за ним всякую способность любви.
Он словно выискивал в этих книгах психологическую подоплеку, по которой его любовь к Гедде была неминуемо обречена на поражение…
Он знал, что Гедда любит и ждет его в Нюрнберге, что он ей желанен и она страдает из-за того, что его нет рядом, – все это он знал, однако предаться этой любви не мог. Он и в себе ощущал желание, но полагал, что не способен донести его до Гедды. Сколько бы он ни пытался, внутри немедленно раздавался голос, обвиняющий его во лжи… голос подстерегал ежесекундно, словно и впрямь обладая силой древнего, по наследству передающегося проклятия. Едва в нем зарождалось чувство любви, как голос немедленно обличал его в попытке обмана… недреманное око всех государственных религий как будто следило изнутри за честностью его чувств. Он уж и не помнил, было ли когда-нибудь: в начале, в конце, в середине – его чувство честным. Не находил в себе сосуда, который мог бы вместить с чистой совестью Геддину любовь… очевидно, он потомок ущербного племени, где всякая попытка общинности загнивала на корню.