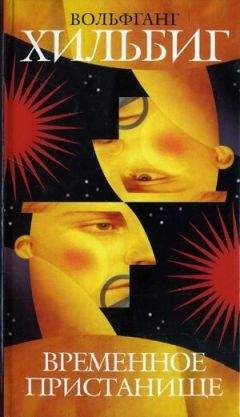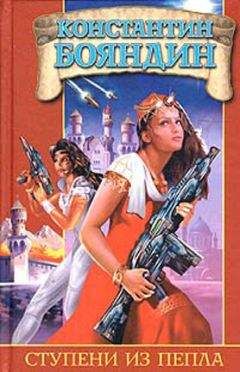Когда подходил к отелю (проследовав, скорее по случайности, ошеломительно коротким путем), зарядил мелкий дождик, пахнувший скорее пылью, чем водой. Здесь, на отрезке между двумя боковыми улицами, тротуар вел под аркадами, мимо ряда колонн; он шел и шел… и вдруг отпрянул назад. Взгляд уперся в окна с закрытыми ставнями, казалось, они закрыты уже очень давно, краска местами облупилась – здание напоминало с виду обветшавший разорившийся театр, – и прямо на этих ставнях висели афиши – с его лицом! Три или четыре окошка на первом этаже, и каждое обклеено такими афишами. Он обернулся чуть ли не в ужасе и только тогда заметил, что и колонны тоже обклеены теми же афишами… это были рекламные афиши уже завершившихся чтений.
Неужели это его лицо? Да, это оно, явственно узнаваемое, но то обстоятельство, что оно здесь, да еще растиражированное в таком количестве, лишено всякого правдоподобия. Он не понимал, в чем дело: он и узнавал себя, и нет… может, все-таки не его? Точно, физиономия на рекламных афишах не имеет к нему отношения… он, Ц., по воле какого-то необъяснимого рока оказался за этим лицом; потом это засняли на пленку и в результате чьей-то нелепой ошибки поместили на афиши за неимением его подлинных изображений: портрет на афишах – это портрет мертвеца… быть не может, чтобы былая жизнь этого трупа являлась его историей – той историей, что у него за плечами…
Я должен эту историю закончить, в ней больше нет смысла, подумал он. Я должен немедленно с ней развязаться.
* * *
«Бьют, – пронеслось в голове. – Бьют… Так и надо… Дождался, значит… это должно было произойти!» Напоследок – он уже был в нокдауне – тяжелый пинок угодил под нижние ребра, и на какое-то время он потерял сознание. Но пнули его наверняка не единожды; эти грубые брутальные башмаки были предписаны модой, бутсы – так называют эти махины из желтой замши на профилированной подошве. Наконец, с трудом закачав в легкие воздух, он сел на булыжники, ощупал болезненные места. Перед тем как искры, посыпавшиеся из глаз, померкли, он еще кое-что заметил. В карман куртки, где у него лежал кошелек, уверенно нырнула рука кого-то невидимого.
Он понуро сидел на булыжниках, медленно припоминая ход событий. Был на пути домой, шел из пивной, по узеньким темным улочкам, которых всегда остерегался, тем более что и путь-то они сокращали весьма незначительно; выпито было много, очень много; он шел нетвердой походкой, держался середины улицы. Сквозь туман в мозгу раздался топот быстрых шагов, за ним гнались двое, может, трое, он не успел ничего толком понять, как грохнул удар по затылку. Обернулся, замахал кулаками в воздухе, слишком замедленно,
сзади и спереди маячили тени; на череп обрушился град ударов, сбил с ног. Потом он говорил себе, что лег умышленно – чтобы благополучно завершить сюжет.
Было около часу ночи, его день рождения закончился час назад; к двум он наконец добрел до квартиры, встал под ледяной душ. Потом сидел на кухне, голый, дрожащий, курил. Характерно, что рука все еще тянулась к телефону; набирать Геддин номер бессмысленно, он это знал; он пытался весь вечер и оттого все больше сходил с ума…
Прошедший день был днем его рождения, ему стукнуло сорок восемь – не та дата, чтобы как-то особенно праздновать. Необязательно. Но Гедда расстроилась: он опять назначил на этот день чтения… Что ты волнуешься, я ведь на сей раз не твой день рождения забыл, а свой собственный, сказал он. К тому же вечером вернусь. Он выступал в окрестной деревушке, в некой художнической колонии на бывшем крестьянском хуторе, где небольшая компания женщин в возрасте от тридцати до пятидесяти занималась чем-то вроде арттерапии; среди них было несколько знакомых Гедды, она-то и навела их на мысль пригласить его; отказываться от денег не хотелось, пообещали гонорар в шестьсот марок. Почему он не предложил Гедде поехать вместе; она отвезла бы его на машине туда и обратно? По правде говоря, его удержало то обстоятельство, что читать предстояло перед женской аудиторией: двадцать пять человек, и все женщины. Договорились начать не поздно, поторопись он немного – и к семи вполне успел бы вернуться. Когда он вошел в квартиру, на часах было двадцать минут одиннадцатого.
Сразу ринулся к телефону и позвонил Гедде; меж тем как из трубки с бесконечной монотонностью несся сигнал «свободно» – пока явно бессмысленную связь не разъединили, – он заметил, что на кухне что-то изменилось. Не отрывая глаз он смотрел на эту перемену, прижимая к виску стрекотавшую трубку, так что уху стало больно: рядом, на спинке второго кухонного стула, висела желтая кожанка…
Он уже несколько лет не носил эту куртку, однажды она оказалась там, на площади Шиллера, и с тех пор пребывала в Геддином платяном шкафу…
И вот она висит здесь, на спинке стула, отбрасывая свой жалкий желтушный отсвет на всю кухню… и почему-то ему вдруг показалось, что от куртки слегка отдает хлороформом…
Он вынул из холодильника початую бутылку водки и залпом опорожнил. В ту же секунду подумал, что ведь еще не проверил почтовый ящик…
Снова набрал Геддин номер, но повесил трубку, не дождавшись сигнала. Действовал как автомат: очень точными, словно управляемыми извне движениями; вытащил из карманов летнего пиджака, который был на нем, все содержимое, надел желтую куртку, набил ее карманы всякой всячиной, которую всегда имел при себе – сигареты, зажигалка, загранпаспорт, очки для чтения, кошелек. Было легкомыслием засунуть кошелек в узкий и тесный боковой карман кожанки – тот почти выпирал наружу…
В пивной он пил с невероятной скоростью пиво и водку. Притулившись к стойке, безостановочно задавал работу человеку на розливе; до закрытия оставалось не более двух часов, внутри бушевала такая тревога, что в ней, как в раскаленном кузнечном горне, каждый новый стакан испарялся с легким шипом, точно капля воды. За спиной чадила и гудела переполненная пивная, разноголосый гомон, силившийся перекрыть дискомузыку, подвывавшую из динамиков, прибавлял нервозности. После каждого второго стакана он шел к телефону, висевшему на стене рядом с дверью в сортир, и набирал Геддин номер. Каждый раз аппарат выплевывал монетки обратно… Что там еще творилось в пивной, было погружено во мрак, всплывали какие-то спутанные, искаженные, зыбкие картинки, в памяти зияли провалы… запомнился только изумленный взгляд бармена, когда Ц., расплачиваясь, бросил на стойку пятидесятимарковую купюру. Только когда добавил еще двадцатку, тот дал ему сдачу…
Позже как будто вспомнилось, что всякий раз, когда он возвращался от телефона к стойке, за дальним столиком рядом с выходом, где сидели сплошь молодые парни, воцарялось молчание; они вроде бы с любопытством пялились на него, когда он, нетвердым шагом, ковылял мимо. А он не обращал внимания…
В кармане брюк обнаружилась сдача: скомканная десятка, все еще влажная от мокрых рук бармена, и несколько пфеннигов. Прихрамывая, он обыскал квартиру в поисках денег, там и сям находилась мелочь, то на подоконнике, то на столе… когда показалось, что на бутыль дешевой сивухи и сигареты денег хватит, он оделся и двинулся к Фридрих-Эбертплатц, где выстроился целый ряд киосков, в которых торговали жареной картошкой и напитками, киосками ведали турки. Одна из этих лавочек всегда открыта до утра, полиция терпит: благодаря этому ясно, где собираются городские бродяги…
Возвращаясь с бутылкой в руках, он снова проигнорировал почтовый ящик. Боялся найти там запасной ключ, который когда-то отдал Гедде…
Большинство так называемых бомжей можно было застать на вокзале, хотя опасностей там было вроде бы больше; но ночью в просторных торговых пассажах под землей теплее, чем у киосков на Фридрих-Эбертплатц. Ц. сидел на ступеньках одной из лестниц и тайком наблюдал за бомжами; в его распоряжении – целая лестница, он к ним не причастен, они его не замечали. Его судьба несравнима с тем, что выпало на их долю: от него просто женщина ушла, только и всего. С иным из этих людей, быть может, тоже когда-то случилось нечто подобное, но потом все так стремительно ухнуло вниз, что первоначальный повод уже и забылся. Они и думать забыли о своем одиночестве, они его не замечали. Большинство составляли здесь мужчины (если не принимать во внимание собак, сворой возившихся у ног), но несколько женщин, как правило, тоже присутствовало. У Ц. кольнуло под сердцем, когда после полуночи они стали готовиться ко сну: двое-трое мужчин уложили немытые, всклокоченные головы женщине на колени, тела растянулись на разостланном картоне. Та прикрыла, как смогла, их головы своими свисающими под несвежей рубахой грудями; заплывшее от кутежей лицо женщины смеялось, она смолила окурок и посасывала пиво из банки; мужчины, удовлетворенно похрюкивая, задремали. Вокруг этой маленькой группы сомкнулись кольцом все остальные, как можно плотнее, как можно удобнее устроились на твердых каменных ступенях, в щели подлезли псы, и вырос теплый холм неопределенного рода живых существ, замысловатым образом сложившихся вместе. Дыша, хрипя, тихо повизгивая, отдыхали они, и звуки их тел напоминали странное пение, в котором, казалось, была согласована каждая нота. Ц., вот уже который день томившийся бессонницей, почувствовал вдруг что-то вроде зависти… Зависть караулила неустанно, стоило ему завидеть мельчайший намек на человеческое тепло и близость, она тут же хватала его за горло. Устыдившись, он тотчас удрал прочь по пустынным улицам. Обойдя стороной Бургберг, темными боковыми улочками добрался до своего жилья, зорко поглядывая по сторонам: второго нападения, очевидно, можно не опасаться, все, что хотели, они уже взяли…