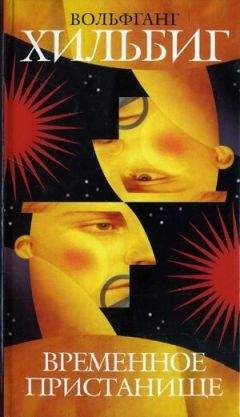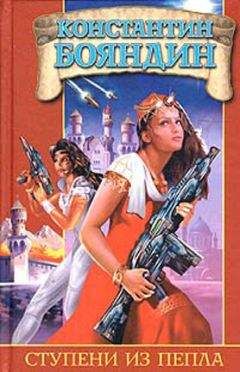Гораздо больше, чем этих улиц, он боялся своей квартиры, этой натрое разделенной клетки, где он дышал пылью, осаждаемый неутомимым лаем и тявканьем орды вертлявых гончих под окнами. Почему он не послушался Гедды, почему не уехал отсюда давным-давно? Почему не поселился с ней; она столько раз предлагала подыскать совместное жилье…
Борясь с собачьим визгом, он ночи напролет слушал пластинки. Соседи жаловались, на вой окаянных псов они не жаловались; с соседом-мясником все были на дружеской ноге. На днях он отыскал среди уцененного барахла в одной лавочке на Брайте-Гассе первый диск Блюз-бэнда Пола Баттерфилда и сейчас прослушал его раза три или четыре подряд. Первая песня, написанная Ником Грэвенитсом, начиналась словами: I was bom in Chicago, in Nineteen forty-one; она как будто нарочно писалась под Пола Баттерфилда: тот и вправду родился в сорок первом в Чикаго. Баттерфилда уже нет в живых; гитарист – всегда облаченный в элегантные костюмы от Майка Блумфилда – тоже мертв; смерть объяснили злоупотреблением наркотиками и алкоголем. Ц., того же года рождения, что и Баттерфилд, все еще жив…
Если он, конечно не заблуждается, то он все еще жив. Насквозь пропитавшись блюзами, Ц. почувствовал тошноту и спустился на улицу. Вот уже несколько недель подряд тошнота и бешеная тревога накатывали через каждые пару часов. Это бессмысленное беснование; знать бы, приходит оно извне или рождается внутри? Подойдя к площади Шиллера, он увидел, что в Геддиных окнах нет света. Бессмысленно твердить себе, что в это время там не может гореть свет… она уехала, никаких сомнений нет. Исчезла, попросила всех говорить ему, что ее нет… вышла из игры, наверное навсегда! По счастью, все пивные в округе уже закрылись, и вскоре он вновь оказался в своей квартире. Церберы слегка приутихли. Притронуться к шнапсу в холодильнике он не посмел… если сейчас достать бутылку, то он не сможет выплеснуть ее в раковину; вот уже который день это так. В дорожной сумке – две голубые таблетки валиума; располовинить каждую и, если все сложится благополучно, можно спать еще четыре дня…
Все знаки – яснее ясного: желтая куртка на спинке стула, ключ в почтовом ящике, ни слова объяснения, ни прощального письма; самая жирная точка, какую только можно себе вообразить. Целыми днями он висел на телефоне, названивал знакомым: прямо полоумный какой-то, кашляет, задыхается, ну до чего ж зануда; ребра тем временем срослись, опухлины на морде спали. Как только дыхание мало-мальски восстановилось, он рухнул на матрас и прямо среди ночи взревел от боли; плакать не мог, орал, как раненый зверь; чудо, что соседи не натравили полицию. Гедда, похоже, и впрямь никого не уведомила, куда сбежала, все знакомые утверждали, что для них это тоже полнейшая загадка. Вспомнился Мюнхен, вполне возможно, что она там, в последнее время она работала над одним текстом, действие происходило в Мюнхене. Но от мюнхенских друзей тоже было ничего не добиться; Ц. попросил их позвонить Герхарду, они обещали, а потом все не перезванивали. На следующий день сказали, что Герхард тоже ничего не знает.
– Да он не хочет знать! – заорал Ц. в трубку. – Он только так говорит…
– Нет, – возразили они, – судя по голосу, он очень встревожен и обеспокоен…
Женщина с Кобергерштрассе, та, у которой всегда по ночам горел свет, обронила в какой-то момент слово Хаар. Ц. повесил трубку, уселся за кухонный стол и задумался (проворные бестии на заднем дворе выли все пронзительнее): неужели Гедда отправилась в хаарскую клинику… туда, где он сам однажды проходил курс детоксикации. На этот шаг его уговорили тогда ее знакомые. Вспомнились вдруг несколько Геддиных реплик, судя по которым мысль о клинике не была ей чужда. Если уж совсем никак, то всегда, на худой конец, остается психиатрия, сказала она; речь шла о ее навязчивых панических состояниях. Порой эти страхи мучили ее так сильно, что он даже подумывал, не отменить ли ему чтения, чтобы остаться с ней в Нюрнберге, но в последнюю секунду, терзаясь совестью, все-таки уезжал. Под конец она научилась ловко скрывать от него свои страхи, делала вид, что все нормально. «Мои дела лучше, чем ты полагаешь!» Подобные фразы звучат в ушах до сих пор. Вечером накануне чтений – перед женщинами, проходившими арт-терапию, – дело дошло до ссоры: он совсем уже с ней не считается, упрекнула Гедда. – Он мог бы с легкостью отменить это выступление, объяснить отказ днем рождения. Но шестьсот марок оказались важнее. Когда ночью после той ссоры он уходил к себе, ему было тревожно, Гедда, похоже, пребывала в каком-то странном смятении. А вдруг ее страхи вернулись… вдруг она почувствовала, что не сможет быть ночью и назавтра одна?
Теперь уже поздно искать ответа. И те шестьсот марок тоже коту под хвост; он отчетливо помнил миг, когда рука, скользнув в карман желтой куртки, вытащила кошелек. Денег было не жалко, хрусткие пинки ниже пояса занимали его куда больше. Боялся за свою жизнь…
В тот миг он не думал о том, что боялся за жизнь, в которой не будет Гедды…
Примерно за месяц до того он в один из своих ночных пьяных рейдов забрел в так называемый квартал красных фонарей, недалеко от вокзала, и оказался в заведении, что-то вроде бара, где сидел за стойкой, таращась на экран, по которому прогонялись одна за другой сцены совокупления; сидеть так было неловко: кроме него, на экран никто не смотрел. От этого занятия его отвлекла молодая женщина, спросившая, не желает ли он ее угостить; по-видимому, она состояла в штате полураздетых дам, «разводящих» мужчин на выпивку. Вместе с женщиной и заказанным ею шампанским он очутился в так называемом отдельном кабинете – нише, обитой красным плюшем, почти полностью загроможденной диваном и круглым столом. Он сидел в этой скудно освещенной клетке, отделенной от внешнего мира занавеской, как воды в рот набрав, наконец она спросила, чего ему, собственно, хотелось. «Покажи свою грудь», – сказал он. Это обойдется в шампанское, отвечала женщина. Он уже не помнил, выполнила ли она его пожелание; когда она в третий раз отправилась за шампанским, он пошел в туалет, на лестнице было пусто, он воспользовался минутой и улизнул из бара…
Все остальные воспоминания о той ночи стерлись, он даже улицы с тем баром не мог отыскать.
После того нападения он все высматривал в городе людей, которых мог повстречать в баре; «сутенеры» – так он называл про себя этот тир. Забрали-таки деньги, на которые он их надул, даже в два, если не в три раза больше забрали. Впрочем, это лишь домыслы, доподлинно ничего неизвестно. И таких субъектов в городе пруд пруди, все они почему-то на одно лицо, хотя вид имеют довольно пестрый: цветастые рубахи, золотые цепи на груди и запястьях, цветные татуировки, усы; всегда свежеподстриженные и всегда как будто только что из солярия или массажного салона. Обходить их стороной нет смысла, весь город наводнен такими…
В последнее время его стало охватывать странное равнодушие – потому, видно, что он все чаще бывал трезвым. Он запретил себе пить, сказав, что непременно должен пробиться к ясности мыслей. Иногда по ночам он, лежа без сна на своем матрасе, мокрый от пота, мучась периодическими приступами тошноты, вдруг понимал, что отказ от алкоголя занимает его гораздо больше, чем утрата Гедды. Почти весь день ни разу о ней не вспомнил, и вчера, и третьего дня, кажется, тоже. Только изредка, когда накатывало безумие, начинал третировать телефон. Звонил в квартиру на площади Шиллера, по полчаса кряду, в состоянии, близком к помешательству, из которого выходил неимоверно усталым… Даже если тонну угля перелопатить, и то так не выдыхаешься, говорил он себе. Лежал на матрасе, не в силах пошевелиться, в голове проносились панические мысли. Длинные вереницы самоупреков, вдребезги разносившие сознание: почему он не съехался с Геддой? Почему не может устроиться в этом мире? Почему затянул расставание с Моной? Не поехал с Геддой в Грецию?
Почему больше не спал с ней? И вместо этого думал о ком-то другом? Почему не мог с ней об этом поговорить? Почему не любил…
События шли мимо, его не касаясь; изредка он что-либо отмечал, подобно тому как регистрируешь краем глаза нечто несущественное; газет не читал, радио не слушал (чтобы посмотреть телевизор, он всегда ходил к Гедде), в издательство не звонил. А заголовки, которые все же достигали его сознания, оставляли равнодушным: беженцы в посольствах, волна массовых отъездов из ГДР, открытие границы с Венгрией, визит в Прагу западногерманского министра иностранных дел. Демонстрации в Лейпциге, Берлине, Дрездене; создание в ГДР новых партий: Новый форум, Демократический прорыв, СДП… сорокалетняя годовщина ГДР… уход в отставку хонекеровского правительства. События маячили где-то вдалеке… на мгновения входили внутрь – и тут же выскальзывали. Отчего это равнодушие? Неужели он и вправду ее не любил? Может, просто не ощущал? Не понял, не разобрался? Нет, он точно ее любил, в меру своих возможностей – должно быть, ничтожных, слишком ничтожных, – но любовь в нем была, он это знает. Он не даст убедить себя в обратном; несмотря на всю свою неспособность, он ее любил…