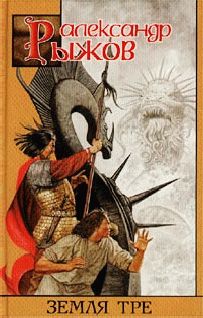Но судьба распорядилась иначе.
Однажды Райский заметил, что у бабушки архаическое представление о судьбе, как у древнего грека: «как о личности какой-нибудь, как будто воплощенная судьба тут стоит и слушает…» На что бабушка охотно согласилась и даже стала озираться. Ей не хватило магических сил, чтобы увидеть поблизости фигуру самого сочинителя. Мы-то в более выгодных условиях и — видим. Впрочем, часто эта фигура и для нас исчезает: когда книга живет как бы сама собой, океанически дышит, вздымая волжские берега, сады, заволжские леса и небо, когда дух манит «за собой, в светлую, таинственную даль… к идеалу чистой человеческой красоты», когда перед грозой все притихает в большом деревенском доме и закрываются окна, трубы, когда дрожащие руки Веры ищут мантилью в беседке на дне обрыва, чтобы накинуть на плечи и натыкаются на ружье, и когда она откликается на безмолвный зов Марка, чтобы утонуть в Обрыве, в его объятиях, и когда пред взором Райского «тихо поднимался со дна пропасти и вставал… образ Веры, в такой обольстительной красоте, в какой он не видал ее никогда!», и когда на сомнамбулические вопросы Веры, мечущейся на постели, слышен голос: «Бабушка пришла! Бабушка любит! Бабушка простила!»
Критики упрекали Гончарова за этот поворот судьбы Веры: она оставила Марка и попыталась найти опору в молитве и церкви. Уже в начале прошлого века все случившееся с Верой вызывало недоумение. Ю. И. Айхенвальд пишет, что «падение» Веры ее личное дело и зачем так раздувать пламя[25]. Ну, а современному читателю — после какого-нибудь Бегбедера или Уэльбека — трагедия Веры и вовсе покажется непролазной архаикой, чем-то вроде «Ипполита» Еврипида. Какое «падение», воскликнет наш современник, это всего лишь первый сексуальный опыт, после которого любовники решили расстаться. И прав Айхенвальд в своем упреке Гончарову, что тот-де слишком оберегает девушку от «падения».
На первый взгляд, критики правы.
Но среди этих голосов надо прислушаться еще к одному голосу — Мережковского, увидевшего в творчестве Гончарова своеобразный символизм.
А. Ф. Лосев, определяя символ как обобщение, создающее бесконечную смысловую перспективу, приводит яркие примеры художественных символов: «Вишневый сад», тройка Гоголя, «Полтаву» Пушкина. Разбирая последнее произведение подробнее, Лосев заключает, что здесь дана не простая картина боя, боев и сражений в России было предостаточно, но именно этот бой и специфика его изображения, его «национальное и общественно-политическое осмысление» возводят это событие и главную его фигуру — Петра Первого — в ранг символа[26].
Имея все это в виду, бросим еще один взгляд на последний роман Гончарова.
Сад Райского — а именно ему принадлежало поместье, бабушка им лишь управляла по-родственному, — стоит на горе над обрывом. И разве не ловишь себя на мысли, что и этот сад постигнет участь вишневого? Вот Райский впадает в хандру и видит в каком-то мрачном озарении, что рыцарь Ватутин — отживший барин, Леонтий — бумажный червь, одурманенный развратной женой, а «вся дворня в Малиновке — жадная стая диких, не осмысленная никакой человеческой чертой». Тут только шаг до видения этой стаи в бунте. То, что недоговаривает Гончаров, отчеканила история. «Судьба придумает!» — восклицает бабушка, и это звучит как пророчество. Ожидание катастрофы разлито в романе. В Обрыве неспроста мерещатся Райскому «блуждающие огни злых обманов». Дело в том, что и тот, другой Диоген, Марк, тоже искал женщину. И здесь уже пора привести заключительные строки романа, в которых Гончаров совмещает фигуры Веры, Марфеньки и бабушки с другой, великой, исполинской фигурой — Россией.
Так от какого же падения хотел уберечь Гончаров свою женщину?
И теперь нам кажется, что ради этого и зажигал сей фонарь, выводя при его бликах еще первые строки этой великой трилогии: «Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом…».
Исчезнувшее пространствоИконописцы знали особое пространство, академик Борис Раушенбах в своей книге «Геометрия картины и зрительное восприятие» называет его мистическим, оно было трехмерным, так как ангелы, например, находились там же, где и обычные, земные персонажи. То есть на иконе сосуществуют два пространства, обычное и мистическое.
Для обозначения мистического пространства иконописцы использовали зачастую темно-синий цвет, линию или даже череду ангелов. Иногда, пишет Раушенбах, на иконе чередовались зоны мистического и обычного.
Позже мистическое пространство стали отделять облаками, изображая сакральные фигуры в том же цвете, что и обычных персонажей, отказываясь и от иерархического увеличения размеров. В итоге, утверждает Раушенбах, мистическое пространство на иконах исчезло, его уже нельзя было отличить от обычного.
Любопытно, но чувство мистического пространства не могло ведь покинуть иконописцев? Каким-то образом оно выражалось. Но тем не менее: современные иконы на меня, например, не производят никакого впечатления. Может быть, дело как раз в этом ушедшем чувстве мистического пространства.
Шаман и Венера-ЧалбонЗабыл шерстяные носки, вернулся на южный склон над ручьем.
Носков не было, значит, все-таки забирал, бросил в палатку или сунул в рюкзак, если, конечно, кто-то не ушел в них.
Посмотрел на узкий закат над черными ольшаниками, повернулся, чтобы идти по тропе в лагерь — среди березовых вершин летела, растопырив лазурные крыла, звезда, единственная на весь небосклон. Венера, Чалбон у эвенков. Шаманы, бывавшие там, рассказывали, что над сухими лиственницами с гнездами оми — нерожденных душ — стоит неумолчный птичий гвалт.
Здесь, конечно, Чалбон восходила в полном молчании. Позже все небо пузырилось звездами, но звезда Чалбон в нем царила, яро горела сквозь неопавшую листву дубов, черные сплетения ветвей и даже сквозь ткань палатки, казалось мне, сквозь лобную кость, — летела, распарывая ночь.
И представился мне человек, идущий куда-то среди пламенеющих зарослей иван-чая в шерстяных носках с березовым посохом…
Что удивительного, шаманы были бедны, как литераторы. Это в агитках писали, что шаманы таежные папы римские. На самом деле все было не так. Вот исследовательница эвенков Василевич пишет, что «пока сохранялись родовые традиции, шаман и его семья были обеспечены питанием, но как только семьи начали большую часть года жить отдельно или в компании с другими семьями, хозяйства большинства шаманов пришли в упадок, так как, занимаясь камланием, шаман часто не имел возможности обеспечить семью мясом и рыбой». Шаман не брал ничего за свои сеансы, довольно изнурительные, длившиеся иногда сутки и больше, во время которых случался и летальный исход из этого — срединного мира (дулин буга). И вообще взаимоотношения с миром духов были не просты. Исследователь Широкогоров приводит такой случай: шаман поразил зловредного духа ножом, поместив его в изображение; но, подходя к чуму, вдруг принялся наносить тем же ножом удары самому себе — и от полученных ран скончался. Так неудачно закончилась схватка с духом. Шаманами становились по призванию; человек видел необычные сны, ему являлся прежний шаман; призвание могло выражаться в форме недуга, кратковременного психического расстройства; чтобы как-то избавиться от этого человек начинал говорить необычные вещи, петь, — ну, вот, как начинающий литератор, поэт принимается гнуть речь и складывать из нее какие-то несуразные вещи, и видеть сны о Льве Толстом, Пушкине, Гомере, уединяться и с головой погружаться в лес книг. Одно и то же недоразумение и мучение. И точно так же, как литератору какой-нибудь маститый волк советует дерзать, учиться и т. д., — точно так таежный горемыка получал совет принять это бремя от старого шамана. И потом разворачивал в чуме театр одного актера — не на жизнь играя, а на смерть. Игры литераторов ведь тоже зачастую оканчиваются прыжком из этого срединного мира.
Кормился шаман сам, как мог. Ну и, правда, в обычное время получал различные мелкие подарки, угощался за «столом» у соседей… Так что пойдешь по миру в одних носках… а путь до Утренней звезды не близок.
Красивое местоЭто место мы открыли случайно; думали, где бы заночевать, увидели с тракта сосны на возвышенности, свернули, проехали между полем и болотом, повернули еще раз и оказались в отличном месте: высоком, сухо-песчаном, овеянном бодро-горьковатым духом сосны. Удивлялись, как это не побывали здесь раньше. В этих краях мы бродим уже больше тридцати лет. Пешком, на велосипедах, в прошлом году стали ездить на автомобиле. А вот это место мы как-то проглядели.