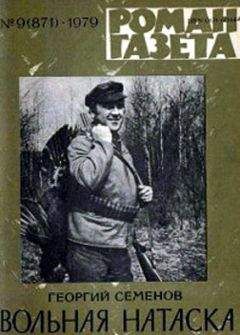Бугорков с трудом сдерживал себя, чтобы не побежать, но, рассчитав, что успеет до грозы спрятаться под крышей, только убыстрил шаг.
Из леса, с его опушки за лугом, послышался шум, протяжный и стройный, все усиливающийся, как вой, и в шуме этом звонко щелкнуло вдруг пересохшее дерево, тут же сломалось и другое, так же резко и звонко щелкнув.
Туча уплотнилась тьмою, мрачно и мокро посинели, выцвели в небе кровавые краски, земля подернулась серостью сурового полотна, а туча, содрогнувшись от струй света, загремела. Гром этот родился где-то очень далеко, но, словно гонимый шумным, буревым ветром, он все разрастался, все крепчал, сердито наваливался грохотом, ширился, набирался сил и наконец потряс землю оглушающе тяжким ударом.
Ветер набросился и на луг, пронизав погребным холодом Бугоркова, который уже стоял на пороге дома озябший, продрогший вмиг и очень злой на эту ледяную тучищу.
Серой стеной надвинулся дождь, и все утонуло в его реве. Даже громы, взрывая этот рев воды, глохли, ворчливо бормоча без устали в бесконечно мерцающем, беспрерывном свете молний. Лишь однажды близкий разряд молнии оглушающе стукнул. молотом по исполинской наковальне, да так страшно, что у Бугоркова даже язык онемел во рту и присох к нёбу.
В избе было жарко. И только потоки воды за окнами сумеречным светом да мерцанием молний выхватывали из тьмы испуганные лица.
Казалось, грозе этой не будет конца, но она ушла еще до заката солнца, громы утихли, из мутно-оранжевого неба сыпал легкий золотистый дождь, и вся земля блестела золотом: каждая лужица, играющая с редкими каплями дождя, плела кружево золотистых тонких колец, беспрерывно возникающих, расходящихся, сплетающихся с соседними кольцами, каждый ручеек отражал закатное небо, каждая капля золотилась, онемев в холоде на стеблях травы… Все, казалось, ожило, торопилось блеснуть, покрасоваться до наступления тьмы. В промытом и холодном воздухе висели невесомые нити дождя, особенно заметные на фоне отошедшего к востоку, утихшего мрака. Люди были рады-радешеньки, что остались живы и невредимы после этой страшной бури.
А Бугорков, любуясь с мокрого крыльца мерцающим дождливым закатом, ежась от холода, думал в радости, что завтра опять взойдет с утра солнце, согреет землю, высушит песок и он опять увидит Верочку Воркуеву.
Но он ошибся. Утро наступило холодное и пасмурное, и он почувствовал себя так, будто его обманули и уже нет никакой возможности исправить положение, вернуть упущенное, догнать ушедший поезд или что-то похожее на, поезд, что-то такое, что только во сне можно почувствовать, проснувшись в испуге и тоске… Только во сне ощущал он такие же потрясения, такой же тоскливый стон в груди, когда казалось — сама жизнь уплывала из-под ног и что-то очень важное уходило и пропадало навеки, без чего он уже и сам не сможет жить.
Так и в это серое утро он погрузился в странный сон, когда нужно было что-то догнать, что-то вернуть, но ни сил, ни умения, ни возможности — ничего этого не было, и он мучился, не находя выхода из болезненной тоски, которая так глубоко и прочно угнездилась в душе, что ее, казалось, не выгнать оттуда никакими силами…
Тоска эта приобретала с каждым днем, с каждым новым порывом холодного ветра чуть ли не физические очертания: какая-то тяжесть давила ему грудь, словно бы там возникла и разрасталась с каждым днем страшная опухоль, мешавшая дышать.
Это даже и не тоска была, а что-то холодное и живое, поселившееся в душе, какая-то предсмертная кручина, которая, казалось, одна и жила, угнетая и обессиливая все мысли и чувства.
Четыре пасмурных дня Бугорков лежал пластом в холодном чулане, укрывшись лоскутным тяжелым одеялом, не брился, ничего не ел, а только смотрел в потолок, считая коричневые сучки в досках, и ждал перемены погоды.
Клавдия Васильевна не на шутку стала беспокоиться за него, и даже Александр Сергеевич приплелся однажды к нему в чулан, поддерживая подштанники…
— Чего, Николка? — спросил он, прошамкав сухими губами, просвистев сиплым, немощным голосом, и, обессилев сразу, уставился на внука горящими, мученически запавшими, страдальческими глазами.
А он ему ничего не ответил и даже отвернулся от деда к стене, потому что и сам в себе тоже, как и дед, не чувствовал жизни.
Но на пятый день побрился с утра, съел тарелку горячего перлового супа и, натянув на ноги дедовские резиновые сапоги, ушел из дому подышать, как он сказал, свежим воздухом.
Дождя не было, дул сильный ветер, по осенне-синему небу густо шли, теснясь, крутые, как вареные яйца, голубоватые облака с сизыми днищами. Луг перед лесом то вспыхивал в солнечном свете, то холодно мерк, леденея лужицами среди травы. Влаги выпало так много за эти дни, что пересытившаяся земля уже не принимала воду, образовавшую среди травы и кочек чистые болотники, идти по которым после недавней жары было странно и приятно, слыша под ногами плеск прозрачной воды, видя искрящиеся в солнечном свете брызги.
Необходимость встречи с Верочкой Воркуевой стала до того естественной, так прижилась в сознании и окрепла за эти дни, что Бугорков и не думал о последствиях этой встречи, а видел перед собой только одну-единственную, реальную, ближайшую цель — Верочку. Его беспокоило лишь одно: как бы она не уехала в Москву, испугавшись ненастья. А сама встреча, то есть даже не встреча, а какое-то статическое положение, в котором он представлял Верочку, стоящую перед ним, — эта нарисованная сцена встречи как бы врезалась в его сознание приятной картинкой, и он бездумно шел к ней, подспудно мечтая об избавлении от нее или, вернее, желая нарушить эту статичность, сдвинуть с места, расшевелить, увидеть движение, услышать смех, голос, учуять запах картинки — оживить ее.
Он целиком был подчинен желанию почувствовать себя рядом с улыбающейся Верочкой Воркуевой, ощутить себя в ее поле зрения… Эта душевная оголтелость и безоглядность упрямо вела его в Воздвиженское. И не было для него цели более высокой, чем эта; ничто не смущало его, ничто не могло остановить — он шел с фанатической уверенностью в свои права на встречу с Верочкой, зная, что легко найдет дом, в котором она живет, легко объяснится с ней, а она легко и радостно поймет его и скажет, как говорила когда-то: «Ну почему так бывает? Я подумала о тебе, а ты пришел».
Но этот бред, бесовское это наваждение было где-то за картинкой, которая стояла перед его глазами. На картинке же была нарисована Верочка Воркуева с черной бархоткой в волосах, круто изогнутые ключицы, обожженные плечи, светлеющий плотный, мокрый песок, ореолы вокруг ее стоп, ее радость, обращенная к сыну, которая, как ему казалось теперь, была обращена к нему и только к нему… Как же он раньше этого не понимал?!
В этом бредовом состоянии, ничего не видя вокруг, он шел, как шел когда-то к поющему глухарю, задыхаясь от нетерпения. И очнулся вдруг на берегу помутневшего от дождей, коричневого, болезненно вспухшего пруда. Бессознательно ощупал взглядом снежные комья уток под нависшими ветвями ивняка, серую рябь сторожких гусей, которые медленно отплыли от берега, когда он проходил мимо.
Из глинистой хляби выбрался на подсохшее шоссе и понял наконец, что пришел в Воздвиженское. По обе стороны дороги стояли дома, голубея тонкой решеткой террас, и как будто смотрели на него, как и люди, ожидавшие автобуса в бетонной будке на обочине…
Они-то как раз и нужны были ему.
— Здрасте, — в нетерпении сказал он, обращаясь сразу ко всем. — Скажите, пожалуйста, а где тут у вас живут Воркуевы? Они москвичи, но у них, здесь дом… Понимаете? Они купили здесь дом.
— А где же у нас Воркуевы живут? — спросила одна женщина у другой.
Никто не знал такой фамилии, и тогда Бугорков подсказал:
— У них дочь… красивая, молодая, и маленький внук… Ее Верой зовут, а сына Олегом, в Честь деда Олега Петровича Воркуева.
Женщины стали перебирать в памяти всех дачников, живущих в Воздвиженском, а молчавший до сих пор мужчина со школьным портфельчиком в руке переспросил с неожиданной злой усмешкой:
— Красивая-то? Красивая… Так это, — обозленно бросил он женщинам, не глядя на Бугоркова, — в Степанидином это доме они живут. У нее сын, верно, — жестко сказал он и шагнул в сторону, повернувшись ко всем спиной, словно ему был противен весь этот разговор. — Красивая, — проворчал он брезгливо.
Когда Бугорков нашел «Степанидин» дом и постучал, слабея от волнения, в окошко, на крыльцо вышла полная, с пышными, как у откормленной крольчихи, щечками, черноокая и очень приветливая молоденькая женщина. Бугорков даже с каким-то облегчением понял, что Верочка Воркуева не ходит в красавицах. Красавицей была именно эта толстушка с румянцем и с брусневеющими сочными губами. Она очень приятно удивилась, очень приятно и жеманно улыбнулась, но зато дала Бугоркову точный адрес Воркуевых, мимо дома которых он, оказывается, прошел.