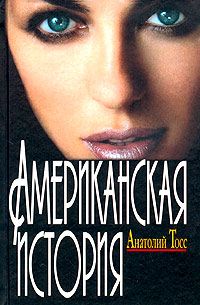Ознакомительная версия.
— Это цинично, Марк. Ты высчитываешь меня как очередную задачку, но ты не можешь просчитать жизнь по формуле. — Сердце мое еще бомбило грудную клетку, но хотя бы голова успокоилась, и я могла говорить. — Ты знаешь, почему ученые не становятся большими писателями или политиками, то есть теми, кто именно и понимает многосложность реальной жизни? Я думала об этом — они ведь лучше других владеют логикой, и школа у них лучше, и люди они творческие, и излагают, как правило, грамотно, но ведь не становились никогда и не становятся. Ты когда-нибудь думал, почему?
Марк молчал, я знала, это был тот редкий случай, когда я все же опередила его, но первенство меня сейчас не волновало, растерянность прошла, она перешла скорее в возмущение, в желание доказать ему, что так нельзя, так нельзя думать, так нельзя рассуждать. Что это порочно, противно человеческой сути.
— Так вот, — я усилила нажим в голосе, — это потому, что законы жизни, движение человека по ней, его отношение с другими людьми, с остальным миром не подчиняются основам точных наук, математической логике. Жизнь нельзя описать ни с помощью теории графов, ни теории множеств, нельзя построить модель, ее отображающую, — жизнь не формализуется. Наука даже не то чтобы бессильна ее охватить, она не ориентирована вообще на эту задачу — охватить жизнь.
Я остановилась. Марк молчал, слушая, я отрегулировала дыхание — теперь я успокоилась совсем. Я знала, что права, я понимала это даже не разумом, а интуитивно, чутьем, но у меня к тому же имелись аргументы, и я продолжила:
— Я тут как-то разговаривала с твоим другом Роном. Он ведь математик, да?
Марк выглядел удивленным. Я действительно не так давно встретила Рона в Гарварде, он узнал меня, обрадовался, и мы пошли пить кофе в кафетерий на первом этаже, где и проболтали с полчаса.
— Так вот он сказал, что каждый раз, когда пытается предугадать ход событий, он ошибается. Он сказал, что ему фатально не везет, он постоянно совершает ошибки, что он никудышный жизненный практик. Я не стала ему объяснять, почему так происходит, я сама тогда не знала, но теперь знаю: это так, потому что он неправильно выучен. Он выучен как математик и пытается анализировать жизненные процессы с помощью тех инструментов, которыми владеет как математик, думая при этом, что у него преимущество. Но именно поэтому он и ошибается. Потому что для анализа жизненных процессов нужно еще обладать интуицией, предчувствием, как это называется, — шестым чувством. А может быть, еще чем-то, чего мы не знаем.
Я выдержала паузу, но Марк не перебивал меня, и я продолжала:
— Это, наверное, совершенно отдельное умение, которое можно назвать «пониманием жизни», что ли, и оно не про расчет, не про формализацию, оно требует совсем другого подхода. А ему твоего друга Рона как раз и не учили, не говоря о том, что этому и научить нельзя, это врожденное, от Бога, как любой другой талант. Его же учили, наоборот, не обращать внимание, игнорировать ощущения, чувства, потому что они ненаучны, и он научился и привык их игнорировать. Именно поэтому из ученых не получается ни писателей, ни политиков, ни вообще тех, кто мог бы вести людей, потому что они ошибаются в самой сути жизни.
Я вдруг заметила, что Марк побледнел, я даже не поняла, из-за чего.
— Я не ошибаюсь, — сказал он, и я вздрогнула от непривычно сухих, пугающие сухих интонаций.
Никогда раньше он не произносил что-либо подобное, никогда я не замечала за ним не то что хвастовства, а вообще желания поговорить о себе. Я посмотрела в его глаза, они были стальные. Я задела его, подумала я, вынудила на неловкое откровение.
— Я не ошибаюсь, — повторил Марк, он выдавливал каждое слово. — Ты права, ты все поняла правильно. Но у меня как раз есть этот талант, я как раз чувствую жизнь, я понимаю ее законы. — Он замолчал, как бы сам сконфуженный несвойственным ему признанием, но все же после длинной паузы добавил не менее твердо, даже резко, как бы настаивая: — Я редко ошибаюсь.
Мы замолчали и молчали долго. Я не хотела больше говорить, настроение было испорчено. Я сидела так минут пять, а потом кто-то из Матвеевых друзей пригласил меня танцевать, свадьба все ж, и я пошла отплясывать, улыбаясь и кокетничая, отвечая на кокетство хорошо двигающегося партнера. Когда я вернулась, Марк по-прежнему сидел за нашим столом. Он положил руку мне на колено и, сильно сжав вместе с платьем до терпимой, но все же боли, сказал примирительно:
— Послушай, малыш, все это ерунда, глупость. Я только пытался сказать, что ты единственная женщина, с которой я хочу быть вместе, — Он все-таки не сказал: «на которой я хочу жениться». — И если я не прав, если через три года ты по-прежнему выберешь меня, я буду самым счастливым человеком. На самом деле — дело за тобой.
Я опять взглянула в его глаза, они очищались от серой накипи, он не хотел ссориться, я тоже не хотела. Я улыбнулась и сказала, что не подведу, но ловлю его на слове: через три года мы вернемся к этому разговору, и я исхитрюсь и все же сделаю его самым счастливым человеком. Он засмеялся и пообещал, что будет ждать.
С началом занятий потянулись будни, от напряженности которых я уже отвыкла и даже соскучилась по ним. Когда я сказала об этом Марку, он предположил, что я стала извращенкой, с чем я радостно согласилась.
Постепенно все снова вошло в привычную колею: ранняя чашка кофе с сонным Марком, утренние лекции и семинары в университете, ланч и потом еще четыре часа у Зильберта, где мне, как правило, удавалось заниматься своими уроками. Потом уютные вечера с Марком — я на родном диване, высоко прислонившись к спинке, укрыв согнутые в коленях ноги пледом, с новой, подобранной Марком книгой и наливным яблочком рядом. Сам Марк где-то недалеко — либо рядом на кресле, либо чуть дальше, на кухне, — тоже с книгой и тетрадкой для записей, с неизменной высокой кружкой наполовину выпитого кофе, и его присутствие придавало тепло и наполненность и самой квартире, и обстановке вокруг, и моему мироощущению. К десяти вечера мы, как всегда, сходились на кухне, и свежезаваренный чай снова ошпаривал чашки и снова текли разговоры, прерываемые разве что моим счастливым смехом.
Зильбер за последнее время, особенно после той беседы у него дома, привязался ко мне еще больше. Я, по сути, сама могла выбирать, чем мне заниматься в рабочие часы, он совсем не загружал меня. Видимо, ему просто хотелось, чтобы я находилась поблизости, чтобы он с постоянной периодичностью мог отрывать меня, зачитывая что-то, если читал, или спрашивая, как мне та или иная фраза, если писал, или та или иная шутка, если собирался вставить шутку в текст очередного выступления.
Он сказал мне однажды, что юмор — это основной показатель культуры народа, что-то типа лакмусовой бумажки, и если у народов похожие шутки, то и культуры близки. Ну и обратное, конечно, верно. «Так же, кстати, и с людьми, — продолжил он. — Если хочешь узнать, насколько тебе близок человек, расскажи ему свой любимый анекдот и посмотри на реакцию». Он считал, что я со своим опытом европейской культуры, попав в эту страну в достаточно раннем возрасте и приняв ее без ограничений, буду идеальным тюнером для настройки его шуток на местный колорит.
Конечно, он лукавил, он жил здесь около сорока лет, и кому, как не ему, было разбираться в ее тончайших нюансах. Он блестяще читал лекции, что было признано всеми, и я ради интереса прослушала несколько из них, когда в моем расписании образовывались окна, и сама убедилась в этом. Читал он легко, накатанно, но непосредственно, часто и остроумно разбавляя свою речь шутками, что, безусловно, улучшало атмосферу. И, хотя на подиуме он выглядел вдвойне высокомерно и в голосе его звучали нотки вещающего пророка, это даже каким-то образом шло к его доминирующей фигуре и было скорее естественным, чем вызывающим.
В какой-то момент я подумала, что, может быть, слишком критична к нему, может быть, те его качества, которые кажутся мне вычурными и смешными, как раз не портят, а, наоборот, гармонируют с его личностью. Посмотри, сказала я себе, студенты от него без ума, коллеги уважают, одна я ехидничаю втихомолку. А что, если моя пристрастность возникла от той изначальной вводной, которую мне дал Марк, и с тех пор я смотрю на Зильбера именно через ее призму? Я не знала, как ответить на свой вопрос.
Конечно, я пользовалась доверительным отношением Зильбера ко мне, что выражалось не только в том, что могла задержаться в кафетерии на полчаса дольше, но и в основном в том, что имела право болтать с ним на такие темы, которые никто другой поднимать не отважился бы. Более того, я знала, что любой мой вопрос будет поощрен, даже встречен с благодарностью, а часто и ожидаем, как повод к последующему разговору. Я заметила, что от слишком длительного моего молчания профессор начинает нервничать, отрывается от стола глазами, как бы ища поддержки в пространстве, как бы пытаясь зацепиться взглядом за каждый по очереди предмет.
Ознакомительная версия.