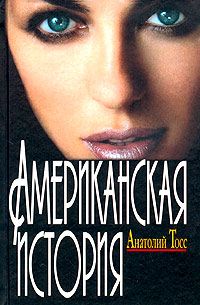Ознакомительная версия.
Однажды именно ради того, чтобы вернуть его в сбалансированное состояние, я спросила нечто дежурное, на что сама знала приблизительный ответ, так как аналогичный вопрос в той или иной форме задается в каждом интервью, если интервьюируемый немолод и знаменит.
— Доктор, — сказала я, — вот вы всего добились. Вы известны, вас уважают, попасть к вам на сеанс психоанализа — очередь на полгода. — Я чуть не сказала: «Вы получаете кучу денег», но, слава Богу, сдержалась. — Вы, по сути, достигли всего, к чему стремятся люди в науке, и тем не менее вы не останавливаетесь. Вы работаете по двенадцать часов в день, ваша жизнь по-прежнему в основном здесь, в университете, вы даже отпуск не берете.
Он был рад, что я отвлекла его, откинулся на спинку кресла, снял очки, заложив ими страницу в книге, и потер ладонью глаза, которые, впрочем, успели до этого запрыгнуть на место.
— Вы могли бы, — продолжала я, — сбросить обороты, заниматься делами — я имею в виду и вашу практику тоже, — как бы это сказать, более лениво, что ли. Больше отдыхать, проводить часть года во Флориде или в Европе, за женщинами ухаживать.
Он усмехнулся. Я знала, что он усмехнется, потому и сказала.
— Ну а на самом деле, что вам мешает? — закончила я монолог вопросом.
Он ответил почти сразу, без задержки:
— Марина, вы сказали, что я перетруждаюсь, — он опять усмехнулся. — Если бы вы знали, как я работал раньше. Теперь что? Я давно уже делаю все, как вы выражаетесь, лениво. Вы бы видели меня прежним, у меня все горело, и вокруг меня все горело, и у людей рядом со мной тоже все горело, потому что я не только генерировал энергию, у меня был избыток ее, я ею подзаряжал других. Вы говорите — достиг. Разве это «достиг»? Это все тень, — он широко провел рукой, как бы включая в «тень» и сам кабинет, и людей за его пределами, впрочем, я понадеялась, что не меня, — жалкая тень того, что было.
Ну вот, сама нарвалась, подумала я с испугом. Сейчас начнет мне про былые победы рассказывать, про свои блистательные Аустерлицы, про то, как женщины его любили и что, как это и полагается, каждая следующая была лучше предыдущей.
Но я ошиблась, он замолчал, глаза его, вместо того чтобы выпрыгнуть, как всегда, наружу с очередным гимнастическим номером, наоборот, впали, как бы всосались внутрь лица, так что даже исчезла их выпуклость — такого трюка даже я ни разу не наблюдала, и лишь потом, подавшись вперед всем своим большим телом, он продолжил;
— Видите ли, Марина, это, возможно, банально, то, что я скажу сейчас, но человеку всегда кажется, что жизни впереди всегда больше, чем жизни позади, независимо от того, сколько позади и сколько осталось. На каждом этапе, пусть осталось-то всего несколько дней, человек планирует сделать больше или, вернее, не сделать, а прожить больше — может быть, не по времени, но по объему, по качеству — чем он прожил до того. И это иллюзия, конечно, но иллюзия живая, явственная.
Я облегченно выдохнула: похоже, про женщин не будет.
— Это лишь высокомерная ошибка молодости, даже не молодости, а, скажем, предыдущего возраста, который в последующем все равно кажется молодостью. Так вот, это ошибка предполагать, что наступает момент, когда человек смиряется с мыслью о старости и теряет интерес к своей жизни, к ее мелочным успехам, не желая больше счастья в полном объеме, не желая самой жизни в полном объеме. Так не бывает, я уже прошел почти все возрастные этапы и убедился, что желание счастья одинаково сильно что в двадцать, что в семьдесят лет. Да и само представление о счастье не так уж меняется с возрастом. Не верите? Поверьте, я по-прежнему хочу всего того, что хотел много лет назад. Ну, возможно, чего-то чуть меньше.
Я улыбнулась. Зильбер заметил мою улыбку и тоже усмехнулся, впрочем, коротко, едва заметно.
— Вдумайтесь, — продолжил он, — ведь желание быть счастливым и есть тот вечный двигатель жизни, который так и не смогли открыть. Именно желание счастья, невзирря на возраст, на силы, на то, сколько еще осталось. То есть бывает по-другому, но, как вы знаете, это называется депрессией, является болезнью и случается в любом возрасте. Поэтому я, как любой человек, тешу себя мыслью, что мне доступна жизнь в полном объеме, и обманываю себя надеждой, что самое главное — это то, что я еще не сделал. Ну и, как полагается, утешаю себя классическим примером Гете.
Я слушала его, не прерывая. Его ответ на мой пустой вопрос не походил на привычные отговорки газетных знаменитостей.
— Знаете, что важно, Марина? Важно уметь распределять успех по всей длине жизни, желательно равномерно. Или, скажем по-другому, распределять жизнь по всей длине жизни. Опять банальность, но сравните жизнь с марафоном, где неважно, как ты пробежал тот или иной отрезок, важно, каким пришел к финишу. Никого в результате не волнует тот факт, что, может быть, где-то в середине ты пробежал несколько километров быстрее других. Если к финишу плетешься в хвосте, то рассказывай потом, что когда-то раньше был впереди, — никого это не интересует. Более того, чем ближе ты находился к первой позиции в начале или в середине дистанции, тем больше раздражения будешь вызывать у зрителей, если к финишу не выдержишь и отстанешь. И их можно понять; они разочарованы — ты не оправдал их надежд, выдохся, сдал. Парадокс, однако, в том, что если с самого начала бежать сзади, то никто не удивится неудачному финишу. Более того, никто и не заметит его.
— Что же делать? — спросила я. Он пожал плечами.
— Стараться рассчитать всю дистанцию, если возможно, хотя это трудно — в марафоне трудно, а в жизни и подавно. У меня есть товарищ, вернее, был товарищ, я его знаю очень давно. Мы с ним похожи и по судьбе, и внешне, нас даже путали в молодости. Основная разница между нами заключалась в том, что он был счастливчик, знаете, бывают такие блестящие люди, которых как бы кто-то ведет, все им дается легко, без натуги. Вот он и был таким, и если вы считаете, что я добился многого, то что бы вы сказали о нем! Он был — сам успех, само процветание, эталон реализованного таланта, не таланта, витающего вне земли, а, наоборот, вполне земного. Ему все завидовали, и я в том числе. Но даже завидовать ему было сложно, зависть к нему могла быть только белой, настолько он был счастливый везунок.
Я не верила своим ушам: Зильбер завидовал кому-то, он признавал за кем-то право первенства. Я взглянула на него по-новому, открывая в нем недоступные для глаза залежи симпатичной человеческой простоты.
— Но что-то с ним случилось лет восемь назад, сразу после семидесяти. Не буду пересказывать, об этом даже говорить печально, но он стал терять себя, не сразу, как после инсульта, а медленно, отступая едва заметными шагами. Не знаю, осознавал ли он это отступление сам, но так как терял он себя по частям, то люди со стороны не замечали резких изменений, как не замечаешь, как растет ребенок, если видишь его каждый день. Тем не менее лет через пять-шесть он не то что перестал напоминать себя прежнего — он утратил то, чем обладает заурядный человек его возраста: память, логику, возможность мыслить, общаться с людьми, даже за собой он уже не в состоянии сам ухаживать. Природа сыграла с ним страшную шутку: он здоров физически, но она ударила его по памяти, по способности мыслить, то есть по тем качествам, в которых он доминировал, в которых с ним невозможно было соперничать. И вот он уже несколько лет живет в доме для престарелых, правда, очень хорошем и удобном доме, и его соседи-ровесники, не зная, кто он и кем был, не здороваются с ним и не хотят разговаривать, так как с ним сложно — он вечно все путает. А когда он пытается им рассказать про себя, и рассказать правду, хотя бы ту, которую еще помнит, они даже из приличия не слушают эту бессмыслицу: мол, чего еще от него ждать, взбалмошного, бестолкового старика. И поверьте мне, Марина, никто, даже те, кто знали его прежним — его ученики, его дети, даже бывшие жены, — не видят его через прошлое, все видят в нем лишь выжившего из ума, но все еще почему-то цепляющегося за жизнь почти что безумца. Конечно, они не сразу переменили свое мнение о нем, скорее это происходило исподволь, постепенно, но восемь лет — большой срок, он подавляет прежние впечатления, меняет, казалось бы, налаженные, устоявшиеся отношения. Мне иногда кажется, что только я один помню его, своего старого товарища, таким, каким он был раньше. И знаете почему, Марина?
— Почему? — спросила я.
— Потому что я не навещал его все эти восемь лет. Потому что я сразу понял, что с ним происходит и что произойдет в Дальнейшем — и с ним самим, и с ним в нашем сознании, в сознании окружающих, — и я не захотел быть свидетелем, а значит, хоть пассивным, но участником его деградации. Я задумал законсервировать его в себе таким, каким он был прежде: самым легким и самым счастливым и талантливым человеком, которого я когда-либо знал. А не тем, кем его все считают теперь, — ничтожеством.
Ознакомительная версия.