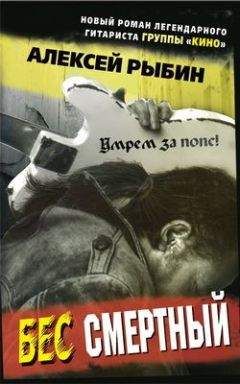Это у него в молодости была такая поговорка. Когда Джонни замечал в гостях симпатичную, с его точки зрения, девчонку, он подходил к ней и жалостливо говорил: «Пойдем, посидим со мной на приступочке». Они выходили на улицу, и Джонни, забыв обо всех приступочках, ступенечках и лавочках, тащил девушку в свое коммунальное логово и там уже и сидел с ней, и стоял, и делал все, что его рок-н-ролльной душе было угодно.
Я открыл глаза, и мне показалось, что я действительно увидел спину Джонни в толпе, прыгающей у сцены.
Но – только показалось. Ни его, ни Курехина, ни моего утонувшего друга, ни прочих, имена и лица которых в последние несколько секунд промелькнули в моем сознании, в зале не было и быть не могло. А стояла передо мной Света Полувечная. Во всей красе. И снова в руках ее была видеокамера. Откуда только они берутся у московской журналистки, оказавшейся в чужом городе, – наряды, видеокамеры?… Выходит, не такая уж она здесь и чужая.
– Слушай, Брежнев, – перекрывая очередную песню Марка, сказала Полувечная. – Нам надо с тобой прощаться.
– Это зачем? – неожиданно для себя спросил я. Еще минуту назад мне было наплевать на Свету Полувечную. А сейчас стало не наплевать. Может быть, после того как я услышал неслышимые слова призрачного Джонни? – Мы разве не станем развивать наше общение во времени и пространстве?
– Ты посмотри на себя, Брежнев, – ответила журналистка. – Ты ведь уже готов. Мне это больше не нужно, извини. Ты уже всё.
– Что значит – всё? Что значит – готов?! – вскрикнул я громче, чем хотел.
В зале на мой крик никто даже головы не повернул. Ну, ясно – не до меня было зрителям-слушателям. Думаю, большинство из них вообще не знали меня в лицо. Новое поколение.
Они и музыку слушают по-другому. Это нормально. Они выросли уже на этом поле, они ходили в школу под скрежет радиоприемников и не слышали друг друга из-за наушников с проводами, тянущимися к уокменам. Сейчас у них через одного в карманах айподы, и каждый носит с собой полное собрание альбомов любимой группы. Они уже свободно говорят на том языке, который мы учили втихомолку, прячась от милиции и КГБ, из-за которого дрались с гопниками и за который вылетали из институтов и комсомола. Еще за него сажали в тюрьмы, ссылали и шантажом вынуждали стучать на своих.
Не знают меня – и пусть их. Мне не жалко и не обидно. Тем более что на сцене стоит организм с моим генетическим кодом, как бы второй я – только с волосами другого цвета и поющий песни, мне совершенно непонятные и ненужные. Тоже – пусть его. Он ведь и сам-то не все понимает, о чем я ему рассказываю… Каждому овощу – свой фрукт, как говорил один мой покойный друг.
– И вообще отвали! – орала Поулвечная. – Я сюда пришла с Марком общаться, а не с тобой!
– Да?
– Да!
Передо мной на секунду показалось лицо Джонни. «Я бы эту девушку пригласил на приступочек».
Не дам я ей Марка, этой суке московской!
Не знаю, что меня вдруг так разобрало, но я схватил Полувечную за плечи. Она – с невиданной для девочки такого формата силой – отпихнула меня, и я едва не своротил стол. С трудом удержавшись на ногах, я нырнул вперед и подцепил Свету под коленки, рывком – откуда только силы взялись – поднял и взвалил на плечо.
Марк начал следующий номер. Публика водоворотом крутилась возле сцены, а в дальнем конце зала, как обычно, народ просто пил, курил и рассказывал друг другу анекдоты, пытаясь перекричать моего сына.
Мимо меня прошел один из охранников, даже не покосившись на Полувечную, которая, барахтаясь на моем плече, колотила меня ногами и руками, била головой и выгибалась, как синусоида на экране осциллографа.
– Отпусти, нелюдь! – орала Полувечная. – Отпусти, гадина! Что ты делаешь? Ты за это ответишь! Тебя за это… Ты…
Все адресные обращения перемежались общими матерными пассажами, накрывавшими не только меня, но и все человечество.
– Ты можешь себе представить, как мы все жили бы, если бы рок-музыку запретили вообще? Не так, как при совке, а вообще? – донесся до меня голос Кирсанова. – Как изменилась бы наша жизнь?
– Никак не изменилась бы, – равнодушно отвечал ему Дюрер. – Жили бы потихоньку.
– А вот я так не думаю…
Визг Полувечной перекрыл не только беседу моих приятелей, но и грохот барабанов, и усиленный порталами-колонками крик Марка, и скрежет гитары с дисторшном, и тысячи прочих звуков, наполнявших клуб. Она визжала очень странно. Я и не знал, что люди способны воспроизводить такие частоты.
У меня заложило уши, в сознании словно щелкнул рубильник, блокирующий все каналы восприятия.
Визг продолжался и в такси. Впрочем, я к нему уже привык. Голова Светы лежала на моих коленях, и глаза журналистки были совсем белые. Мне даже в какой-то момент показалось, что век у нее вовсе нет. Водитель с привычным уже зеленым лицом молчал и гнал машину, игнорируя светофоры, заезжая на тротуар – благо, тротуары были пусты, – и без конца курил «Беломор», дым которого, почему-то, ничем не пахнул.
Мы ехали странным путем – мчались через неизвестные мне проходные дворы, разворачивались на сто восемьдесят градусов, тормозили, снова ускорялись… Солнце, которое этой ночью, вероятно, не собиралось садиться вовсе, било то справа, то слева, то сзади, а один раз мне показалось, что оно осветило нас даже откуда-то снизу. И еще – в кабине было очень жарко. Лицо Полувечной пылало, как хорошо раскочегаренный мангал, воздух обжигал мне горло, пот капал со лба и подбородка на грудь.
Я не помню, как и чем расплатился с безмолвным шофером, как поднимал журналистку по лестнице и открывал входную дверь своей квартиры. Уши были забиты тяжелыми пробками монотонного, на одной ноте, беспрерывного воя.
Мы ввалились в прихожую, уронив вешалку. По инерции я пробежал в гостиную и швырнул орущую журналистку на диван. При соприкосновении ее с диваном уровень воя значительно поднялся. Стягивая с себя джинсы, я пропрыгал к полке с аппаратурой. Включил CD-проигрыватель и усилитель, включил DVD с выходом на автономный ресивер, сделал еще один прыжок в сторону и нажал на клавишу радиоприемника. Последний бросок был сделан к столу с компьютером – у него были свои колонки, и я запустил свои запасы музыки в MP-3 формате.
Света Полувечная лежала на диване, раскинув руки и ноги. Мне показалось, что она окутана клубами пушистого банного пара. Как бы там ни было, воздух в комнате быстро нагревался – то ли от не желающего садиться солнца, которое било прямо в окно, то ли от включенной аппаратуры, хотя она у меня практически не греется, то ли от моего неожиданного желания.
Я бросился на журналистку – в голове моей загремела музыка, она была везде, она сидела во мне с детства, поднимались и перемешивались аккуратно уложенные в подсознании пласты, – и мы начали сжигать друг друга Хендриксом. Потом я почти полюбил девчонку под «Битлз» и «Стоунз», но стоило мне размякнуть, как она сама изнасиловала меня на пару с Ниной Хаген. Я понял, что эта сучка сейчас сбежит, а допустить этого я просто не мог, не имел права, и я совершенно удолбал ее «Рэд Хот Чили Пепперсом». Потом мы колотились в пульсации «Крафтверка», изнемогли, растворились в сахарном сиропе «Бич Бойз», налились упругой силой с «Систем оф э Даун» и превратились в два кузнечных молота с «Министри». Мы вытворяли черт знает что под Майлза Дэвиса и занимались уже совершенно полным непотребством с «Уайт Страйпс». Мы убивали друг друга под «Юниверс Зиро», я ковырялся в ней Зорном, а она расчленила меня «Найн Инч Нейлз», мы взлетали в космос с «Хоквинд», и нас плющило тоннами земли вместе с «Дефтонс». После «Марс Вольта» от нас уже ничего не осталось, но мы чудесным образом вновь собрались из разлетевшихся по комнате молекул и деловито мучили друг друга с «Токинг Хедз» и «Джой Дивижн», потом я сожрал ее с Заппой и выблевал с «Паблик Имиджем».
Конца ночи не предвиделось, музыка висела надо мной, а снизу, из-под живота, ритмично подвывала Света Полувечная. Жара постепенно спадала.
– Вот так вот, между нами, стукачами, будет сказано. – Отец Вселенной грустно улыбнулся. – Не переживай, все наладится.
Улыбка у него получилась страшненькой – на месте выбитого глаза у Соловьева торчал стеклянный муляж, причем радужная оболочка его была ярко-красной. Как объяснил Отец Вселенной, он специально подобрал такой цвет, чтобы беседующим с ним людям «жизнь раем не казалась».
– Все прах и тлен, и ничто не стоит нашего волнения. Не говоря уже о жизни. Самое мудрое, что мы можем сделать, – в любой ситуации оставаться спокойными. Так что попрощаемся, Боцман. Ты мужик хороший. А то, что стукач, – не переживай, все мы стукачи. Иначе тут не выживешь. А ты выберешься – когда дойдешь до предела.
Знать бы только, где он, этот предел.
Комнаты Марины Штамм были пусты. В них не было ни мебели, ни пустых коробок, ни даже обычного при распродажах и переездах хлама – обрывков веревки, кусков упаковочной бумаги, тряпок, разных, оказавшихся ненужными мелочей: старых авторучек, сломанных карандашей, ключей от неизвестно каких дверей, гнутых заржавевших вилок и ложек, газет, проводов и проволочек, разнокалиберных гвоздей, скрепок, шайб и винтиков, сломанных аудиокассет, исцарапанных компакт-дисков, рваных домашних тапочек, расколотых цветочных горшков, вышедших из моды люстр и задохнувшихся от старости магнитофонов. Комнаты были идеально пусты и чисты. Из стены торчали телефонные провода – конец оборванного двужильного кабеля походил на гадючий язык.